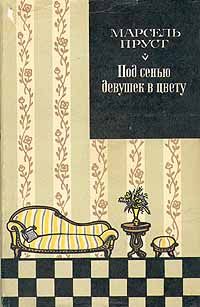Марсель Пруст - Под сенью девушек в цвету
Хотя умственные достоинства салона и степень его элегантности обычно находятся в отношении скорее обратном, чем прямом, надо полагать, поскольку Сван находил г-жу Бонтан приятной, что всякий упадок, с которым мы примирились, делает нас менее требовательными к тем, в чьем обществе мы покорно находим удовольствие, — менее требовательными к их уму, а также ко всему остальному. Если это верно, то отдельные люди, подобно народам, обречены видеть, как с утратой независимости исчезает их культура и даже язык. Одно из последствий этой снисходительности — то, что с известного возраста в нас усиливается склонность находить приятными слова, выражающие почтение к нашему складу ума, к нашим вкусам, поощряющие нас отдаться им; это тот возраст, когда великий художник предпочитает обществу оригинальных талантов общество своих учеников, у которых нет с ним ничего общего, кроме буквы его доктрины, и которые кадят ему, его слушают; или когда незаурядные мужчина или женщина, живущие для любви, сочтут где-нибудь в обществе самым умным человека, стоящего, может быть, и ниже их, но показавшего какой-нибудь фразой, что он умеет понять и оценить жизнь, посвященную искусству любви, и этим самым приятно пощекотавшего сладострастные склонности любовника или любовницы; это был также тот возраст, когда Свану, поскольку он стал мужем Одетты, нравилось слушать г-жу Бонтан, говорившую, что смешно принимать одних только герцогинь (из чего он делал вывод, вопреки тому, как он отнесся бы к этому прежде у Вердюренов, что она — женщина добрая, очень умная и без всякого снобизма), нравилось рассказывать ей истории, от которых она «покатывалась», так как не знала их, и которые, впрочем, «схватывала» быстро, нравилось говорить комплименты и развлекаться. «Значит, доктор не сходит с ума по цветам, как вы?» — спрашивала г-жа Сван г-жу Котар. «О, знаете, мой муж — мудрец, он умерен во всем! Впрочем, нет, у него есть страсть». Г-жа Бонтан, взгляд которой загорался недоброжелательством, спрашивала: «А какая?» Г-жа Котар просто отвечала: «Чтение». — «О, страсть вполне успокоительная в супружеской жизни!» — восклицала г-жа Бонтан, подавляя сатанинский хохот. «Когда доктор погрузится в книгу, знаете!» — «Ну так что же, мадам, это вас не должно особенно пугать…» — «Как не должно… а его зрение? Мне пора возвращаться к нему, Одетта, а в вашу дверь я снова постучусь в самом скором времени. Кстати по поводу зрения: слышали вы, что особняк, который купила г-жа Вердюрен, будет освещаться электричеством? Я это знаю не от моей собственной полиции, а из другого источника: мне это говорил сам монтёр Мильде. Вы видите, я ссылаюсь на свои источники! Вплоть до спален, где будут электрические лампы с абажурами, рассеивающими свет. По-видимому, очаровательная роскошь. Наши современницы непременно желают чего-нибудь нового, хотя бы и по-разному. Сестра мужа одной из моих приятельниц поставила у себя телефон! Она может говорить со своими поставщиками, не выходя из квартиры! Признаюсь, я безобразно интриговала, лишь бы мне разрешили прийти как-нибудь поговорить у аппарата. Это меня очень соблазняет, но скорее у приятельницы, чем у себя. Мне кажется, мне было бы неприятно иметь телефон у себя дома. Вначале будет занятно, но когда привыкнешь, голова затрещит. Ну, Одетта, я бегу, не задерживайте больше госпожу Бонтан, так как я на ее попечении, я непременно должна вырваться от вас, вот будет мило, я вернусь домой после мужа!»
И мне тоже пора было возвращаться домой, не вкусив зимних утех, для которых хризантемы как бы служили блестящей оболочкой. Эти утехи не пришли, а между тем г-жа Сван уже, по-видимому, ничего не ждала. Она приказывала слугам убрать чай, как будто объявляя: «Время закрывать!» И наконец она мне говорила: «Так вы в самом деле уходите? Ну что же, good-bye[26]». Я чувствовал, что даже оставшись здесь, я бы не узнал этих неведомых утех и что меня лишает их не только моя печаль. Так, может быть, их и не встретишь на этой проторенной дороге, где часы так быстро мчат к минуте расставанья, а скорее на каком-нибудь незнакомом мне проселке, куда надо было бы свернуть? По крайней мере, цель моего визита была достигнута: Жильберта будет знать, что в ее отсутствие я был у ее родителей и при этом, как не переставала твердить г-жа Котар, «сразу же, с первого взгляда», покорил г-жу Вердюрен, которая, по словам жены доктора, «никогда не рассыпалась в таких любезностях». «Очевидно, — сказала она, — вас связывает родство атомов». Жильберта будет знать, что я, как и подобало, с нежностью говорил о ней, но что я больше не чувствую этой невозможности жить без нее, казавшейся мне причиной скуки, которую последнее время она испытывала в моем обществе. Я сказал г-же Сван, что не могу больше встречаться с Жильбертой. Я сказал это так, как будто навсегда решил не видеться с ней. И письмо, которое я собирался послать Жильберте, будет иметь этот же смысл. Лишь самому себе, чтобы поддержать в себе мужество, я предлагал сделать на несколько дней краткое и последнее усилие. Я говорил себе: «Это — последнее свидание, от которого я отказываюсь, на следующее я приду». Чтобы сделать разлуку менее трудной, я не представлял ее себе окончательной. Но ясно чувствовал, что она будет окончательной.
Первое января было для меня особенно мучительно в том году. Конечно, когда мы несчастны, мучительна всякая дата, всякая годовщина. Но если, например, мы скорбим об утрате любимого человека, страдание сводится только к более живому сравнению с прошлым. В данном случае примешивалась невыраженная надежда, что Жильберта, предоставив мне сделать первые шаги и видя, что я не предпринял их, ждет только Нового года, как повода, чтобы написать мне: «Ну что же, в чем дело, я без ума от вас, приходите, мы объяснимся начистоту, не могу жить, не видя вас». С наступлением последних дней старого года это письмо начало мне казаться вероятным. Оно, может быть, не было бы таким, но чтобы поверить в его вероятность, нам достаточно желания, потребности в нем. Солдат уверен, что ему будет дана бесконечно пролонгируемая отсрочка, прежде чем его убьют, а вор — прежде чем его поймают, люди же вообще — прежде чем им придется умереть. Вот где амулет, предохраняющий личность — а иногда и целый народ — если не от опасности, то от боязни опасности, в действительности — от веры в опасность, что в некоторых случаях позволяет преодолевать ее, не требуя храбрости. Такая же уверенность, и столь же необоснованная, поддерживает любовника, рассчитывающего на примирение, на письмо. Чтобы не ждать письма, мне стоило только перестать желать его. Как бы ни были мы, по нашему убеждению, равнодушны к той, которую мы еще любим, мы все же приписываем ей ряд мыслей — хотя бы и о равнодушии, — намерение их выразить, сложность внутренней жизни, где мы, быть может, являемся предметом антипатии, но также и непрестанного внимания. Напротив, чтобы вообразить состояние Жильберты, мне бы надо было попросту обладать даром прозрения и уже первого января того года предвосхитить все то, что я бы почувствовал первого января одного из будущих годов, когда внимание, или молчание, или нежность, или холодность Жильберты остались бы более или менее незамеченными мною и когда я не подумал бы, даже не мог бы подумать, искать решения вопросов, которые более не возникали бы для меня. Когда мы любим, любовь слишком велика, чтобы полностью вместиться в нас; излучаясь, она направляется к любимому человеку, встречает в нем поверхность, которая ее задерживает, заставляет вернуться к исходной точке, и вот этот удар, возвращающий нашу влюбленность назад, мы и называем чувствами другого, и он сильнее нас очаровывает, чем ее движение, направленное вперед, так как мы не видим, что он исходит от нас. Первого января часы пробили положенное число раз, а письма от Жильберты не пришло. А так как я получил еще несколько поздравительных писем, запоздалых или задержавшихся по вине почты, слишком загруженной в эти дни, то третьего и четвертого января я продолжал еще надеяться, но все меньше и меньше. Я много плакал в следующие дни. Наверное, оттого, что, будучи менее искренен, чем я думал, когда решил отказаться от Жильберты, я сохранял надежду на это новогоднее письмо. И, видя, что эта надежда истощилась прежде, чем я успел найти ей замену, я мучился, как больной, опорожнивший склянку с морфием, не имея под рукой другой. Но, может быть (и эти два объяснения не исключают друг друга, так как иногда одно и то же чувство бывает противоречиво), надежда на получение письма приблизила ко мне образ Жильберты, воссоздала волнение, которое возбуждало во мне прежде ожидание встречи с ней, ее вид, ее манера держаться со мной. Немедленная возможность примирения уничтожила вещь, в огромных размерах которой мы не отдаем себе отчета, — покорность судьбе. Неврастеники не могут поверить людям, уверяющим их, что они постепенно успокоятся, если будут лежать в постели, не получая писем, не читая газет. Они думают, что этот режим только обострит их нервозность. Также и влюбленные не могут поверить в благотворное действие самоотречения, не испытав его, пребывая в состоянии, ему противоположном.