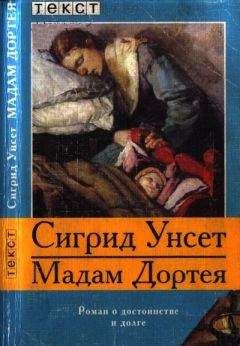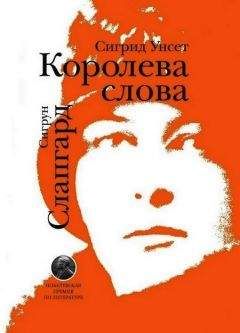Сигрид Унсет - Улав, сын Аудуна из Хествикена
Небо было затянуто тучами, но сквозь просветы облаков лился холодный медно-желтый свет. По вечерам уже становилось сыро, чувствовалось приближение осени.
Улав и Ингунн спускались вниз по склону среди дворовых построек. Они подошли к плетню, огораживавшему пашню; положив руки на изгородь, Улав стал смотреть вокруг. Спелая пшеница светилась белым светом под свинцово-серым небом; внизу, тихий, лежал залив, отражая сгущавшуюся мглу; на другой стороне иссиня-черная, поросшая лесом горная гряда сливалась с берегом.
– Какое это все родное, норвежское! – тихо сказал Улав. – Узнаю страну норвегов! Все так, как обычно бывает у нас по осени. В Дании же ветры дуют почти всегда.
Полуобернувшись к девушке, Улав обнял ее за плечи и притянул к себе. Глубоко вздохнув от счастья, она тяжело оперлась на него. Наконец-то она почувствовала себя дома, наконец-то она в его объятиях. Улав сжал в ладонях ее лицо, откинул назад волосы и поцеловал впадинки на висках.
– Прежде здесь, у корней волос, были кудряшки, – шепнул он.
– Я так сильно расчесываю волосы, – тихо сказала она, – что счесала завитки… Когда они сняли с меня головную повязку, я стала заплетать косы как можно туже…
– Да, теперь вспоминаю – ты ходила в повязке всю ту зиму в Хамаре!
– Тебе досадно, что я поддалась им и… сняла повязку?
Покачав головой, Улав чуть улыбнулся.
– Я почти забыл о том; когда я думал о тебе, ты мне виделась всегда такой, какой была во Фреттастейне.
– Скажи, очень я переменилась с той поры? Как по-твоему? – боязливым шепотом спросила Ингунн. – Очень уж я подурнела?
– Ничуть! – Он крепко сжал ее в объятиях.
С минуту они постояли, тесно прижавшись друг к другу. Потом он отпустил ее.
– Пора идти в дом. Скоро стемнеет… – По-прежнему стоя на месте, он гладил ее косы, наматывал их на запястья и, чуть отстранившись от Ингунн, раскачивал ее взад и вперед.
– И какая же ты раскрасавица, Ингунн! – пылко сказал он.
Потом он снова отпустил ее, засмеявшись странным, коротким смешком. И вдруг спросил:
– Ты уже более года не видала Арнвида?
Ингунн ответила, что так оно и есть.
– Я бы охотно повидался с ним на сей раз. Он ведь единственный друг, который был у меня в юности, кроме тебя. Позднее, когда входишь в лета и сближаешься с людьми, дружба уже совсем не та.
Ему был двадцать один год, а ей двадцать, но ни одному из них и в голову не приходило, что они слишком юны для таких речей. На диво много событий произошло с ними обоими с тех пор, как они перестали быть детьми.
Сразу же после этих слов Улав повернулся и начал подниматься вверх по склону; Ингунн шла за ним следом по узкой тропе меж хлевами. Грим и Далла сидели на каменном порожке у дверей одного из них. Старики не помнили себя от счастья, когда Улав остановился подле них. Спустя некоторое время он вытащил из кошеля, висевшего на поясе, немного денег и дал им – радости их не было конца.
Ингунн стояла, прислонившись к стене хлева, но никто с ней не заговаривал. Когда же она поняла, что Улав, как видно, хочет посидеть здесь часок со старыми слугами, она пожелала всем спокойной ночи и пошла назад, в бабушкин дом…
Улав пробыл в Берге пять дней, на шестое утро сказал, что вечером должен поехать верхом в Хамар, потому как там обещали ему, ежели он прибудет в город рано поутру, перевезти его на лодке в Эйдсволл. Он очень подружился с Иваром и Магнхильд, а все в усадьбе говорили: Улав, мол, сильно возмужал за те годы, что провел в заморье. Но им с Ингунн не доводилось часто беседовать друг с другом.
В тот день, когда ему надобно было уезжать, она попросила его подняться с ней в верхнюю горницу стабура, где хранились собственные вещи ее и Осы. Отомкнув свой сундук, она вытащила оттуда большой полотняный сверток и протянула его Улаву, отвернув в сторону лицо.
– Это твоя свадебная рубаха, Улав. Я хочу отдать тебе ее нынче.
Когда она все-таки под конец взглянула на него, он стоял, держа в руках рубашку; он покраснел, и лицо его стало на удивление мягким и растроганным.
– Благослови тебя господь, Ингунн; благослови боже руки твои за каждый стежок, что ты здесь сделала…
– Улав, не уезжай!
– Ты ведь знаешь, я должен, – тихо сказал он.
– О нет, Улав! Не думала я, когда ты наконец вернулся домой, что ты снова тотчас же уедешь от меня. Останься, Улав… хоть на три денечка… хоть на денек!
– Нет! – Улав вздохнул. – Неужто ты не понимаешь, Ингунн, я ведь еще опальный; было безрассудной дерзостью приезжать сюда, но я думал: мне надобно видеть тебя и потолковать с твоими родичами. Ныне у меня ничего нет в Норвегии, что я мог бы по праву назвать своим. Ярл, мой господин, обещал… Будь это иначе, не назначь он мне встречу в урочный час… Уклониться я не могу. А теперь пора ехать, чтобы поспеть к нему в срок…
– Возьми меня с собой! – почти неслышно шепнула она.
– Пойми, не могу я это сделать. Куда я тебя порезу? В Валдинсхолм, где ты будешь среди дружинников ярла?.. – Он засмеялся.
– Мне так тяжко жилось здесь, в Берге, – снова прошептала она.
– Не разумею этого. Они так добры – фру Магнхильд и фру Оса… Пока я был там, на юге… я все боялся, как бы Колбейн не стал домогаться, чтобы ты жила у него. Боялся за тебя, желанная моя… А здесь тебе живется как нельзя лучше…
– Я не выдержу здесь дольше… Коли не можешь меня увезти, раздобудь мне пристанище в другом месте.
– Не могу я найти тебе пристанища до тех пор, покуда снова не обрету права владения своим имуществом, – нетерпеливо молвил Улав. – И неужто, по-твоему, Ивару и Магнхильд понравится, коли я увезу тебя… Ведь Ивар – мой ходатай перед Колбейном. Не будь же столь неразумна, Ингунн. И Осе-хозяйке никак без тебя не обойтись…
Они немного помолчали. Ингунн подошла к оконцу.
– Всякий раз, когда я стояла здесь, выглядывая из оконца, я думала, что эти места, может статься, похожи на Хествикен.
Улав подошел и ласково положил руку ей на затылок.
– О нет, – рассеянно сказал он, – в Хествикене фьорд много шире – скоро увидишь. Там уже настоящее море. И усадьба, помнится мне, стоит выше на горе.
Он отошел, взял рубаху и свернул ее.
– Немало ты потрудилась, Ингунн, ишь сколько стежков пришлось сделать.
– О, у меня было на это целых четыре года, – жестко сказала она.
– Выйдем отсюда, – вспыхнул Улав. – Выйдем и потолкуем.
Они спустились вниз по склону, через пашни, к валу у самой воды. На сухой каменистой земле росли можжевельник и какой-то мелкий кустарник, а кое-где между ними были прогалинки, поросшие низкой, выжженной солнцем травой.
– Иди сюда, садись! – Сам он лег на живот рядом с ней. Он лежал, глядя так, словно мысли унесли его далеко отсюда.
Ей вдруг показалось, будто они стали ближе друг другу, – ведь он погрузился в раздумье и затих, лишь только остался с нею наедине. Она так привыкла к этому со времен их детства. Она сидела, с нежностью глядя на мелкие веснушки, усеявшие его переносье. И они ей так хорошо знакомы, думала она.
Огромные тучи мчались по небу, отбрасывая тени на землю, отчего леса казались темно-синими, а между тенями так ярко светились пятнышки зеленых лугов и пашен! Фьорд же был свинцово-серый, испещренный блестящими темными полосками течений и кое-где отражавший осенний лес. Порой выглядывало солнце, и яркий золотистый свет сильно резал им глаза, но лишь только солнце заволакивалось тучей, становилось прохладно, а земля казалась влажной.
Наконец девушка спросила:
– О чем ты думаешь, Улав?
Он вздохнул, будто очнувшись ото сна… Потом взял ее руку и прижался лицом к ладони.
– Не будь ты столь неразумна, – сказал он, словно продолжая их беседу в стабуре. Он чуть помедлил. – Из Хевдинггорда я уехал, не поблагодарив за гостеприимство…
Ингунн испуганно вскрикнула.
– Да, – молвил Улав. – То было худо… и непристойно, ведь дядя был столь добр ко мне…
– Вы стали недругами?
– Не совсем. Так случилось оттого, что один его поступок пришелся мне не по нраву. Он велел наказать одного из своих латников – нельзя сказать, чтобы кара была более сурова, нежели человек того заслуживал. Но дядя часто бывал жесток, когда в нем закипал гнев… А ты ведь знаешь, мне всегда претило, когда людей или скотину мучили зря…
– И вы поссорились?
– Да нет. Тот его оруженосец был предателем… Они сидели и бражничали в жилом доме – дядя и несколько его родичей и друзей… да то ведь были и мои родичи… Они приехали к нам пировать на пасху… пасхальным вечером. Они беседовали о своем короле, добра ему не желал никто… и тут они стали громко говорить о том, что готовится против короля Эрика [87]. Видишь ли, много страшных козней строили они там… А были мы все хмельные и невоздержанны на язык. Этот самый Оке обносил гостей пивом за столом, и вот он после того поскакал к королевским воеводам в Хольбекгорде и продал им те тайны, что услыхал, а дядя прознал про это. И тогда дядя повелел отвести Оке в девичью рощу и привязать к самому могучему дубу, а потом взял руку предателя, которой тот клялся Барниму в верности, и пригвоздил ее к стволу ножом…