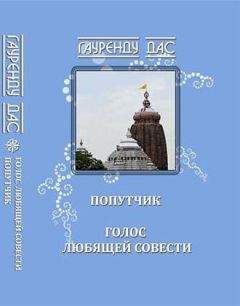Теодор Драйзер - Оплот
Третьим был С. Гай Сэй, владелец большого универсального магазина с отделениями в нескольких городах. По виду он легко мог сойти за одного из своих приказчиков: высокий, вылощенный, с большими темно-карими глазами и матовым лицом, бледность которого оттеняли холеные черные бакенбарды, доходившие до тщательно выбритого подбородка. Нрав у него был бешеный, но он умел скрывать это под светской непринужденностью манер, производившей всегда самое приятное впечатление. Кроме того, он занимал хорошее положение в обществе.
Сэйблуорс и Эверард, а с ними и другие члены правления были убеждены в том, что банку предстоят большие дела. Сэйблуорс, по каким-то чисто эмоциональным побуждениям, стремился связать свою судьбу с судьбой Уилкерсона. Эверарда больше тянуло к Бэйкеру, хотя и Сэй ему нравился. Солон со стороны наблюдал всех троих и ни одного по-настоящему не понимал. Он отдавал должное деловой сметке Бэйкера и изяществу манер Сэя, Уилкерсон же казался ему человеком грубым и необузданным, настоящим дикарем.
Будь Солон Барнс несколько иного склада, он мог бы значительно преуспеть в то время, потому что сами обстоятельства выводили его на путь, каким достигаются большие и даже огромные состояния. Люди, с которыми ему теперь приходилось работать, были из породы тех, кто постоянно стремится захватывать, господствовать, подчинять себе других. Там, где дело касалось денег, для них не существовало морали, хотя в других отношениях это были обыкновенные люди, такие же рабы условностей, как и все. К Солону они относились весьма благожелательно. Их подкупала его простота, чистосердечие, добросовестность; на Уилкерсона эти качества произвели такое сильное впечатление, что он как-то даже завел об этом разговор с мистером Сэйблуорсом.
— Кстати, о квакерах, — сказал он, мотнув головой в сторону перегородки, за которой сидел Солон. — Много у нас вкладчиков из этой публики?
— Да, немало, — ответил Сэйблуорс не без оттенка похвальбы, так как в Филадельфии популярность того или иного учреждения у квакеров служит наилучшей рекомендацией, чуть ли не гарантией солидности. — Мы всегда смотрели на мистера Барнса, — продолжал он, — как на одну из самых надежных ценностей в активе банка. Его честность и добропорядочность снискали ему всеобщее уважение. Состоятельные люди предпочитают иметь дело именно с ним. Он не из тех, кто легко заводит дружеские отношения, и тем не менее у него очень много друзей.
Мистер Уилкерсон поджал губы.
— Любопытно, как эти квакеры держатся за свои принципы, — сказал он. — А в то же время они неплохо умеют наживать деньги.
— Да, это верно, — согласился Сэйблуорс, изображая на лице улыбку, которая ему самому казалась глубокомысленной. — Но вы не найдете человека, который лучше мистера Барнса разбирался бы в делах нашего банка, — да и не только нашего. Его осведомленности просто удивляешься. Прежде у нас ведал кредитами мистер Эверард, но задолго до того, как стать вице-председателем, он в сущности передоверил все дело Барнсу. Он вам и сам это подтвердит.
Этот разговор заставил Уилкерсона задуматься. Такого человека, как Барнс, хорошо иметь другом и опасно — врагом.
Бэйкер с первых же дней стал делать откровенные попытки сблизиться с Солоном. Бывая в банке, он постоянно останавливался у его стола поговорить о том, о сем. Как-то раз, дружески поздоровавшись с Солоном, он заметил, словно бы между прочим:
— Скажите, мистер Барнс, вы последнее время не интересовались Пенсильванскими автомобильными и сталелитейными?
— Специально не интересовался, — ответил Солон. — Но я обычно слежу за биржевыми курсами. Пенсильванские как будто стоят на шестидесяти восьми?
— Именно, — подтвердил Бэйкер и затем добавил с благосклонной улыбкой: — Если у вас есть какая-нибудь мелочишка, которой вы хотели бы распорядиться, учтите, что на каждой акции, приобретенной до августа месяца, можно заработать десять долларов. Но это, разумеется, строго между нами...
— Спасибо за любезный совет, — сказал Солон, улыбаясь в ответ. — Я не премину им воспользоваться.
Он сразу же подумал о своей двоюродной сестре Роде: она недавно говорила ему, что у нее есть восемь тысяч долларов, которые ей хотелось бы вложить в какие-нибудь солидные бумаги, и спрашивала его совета.
У Сэя тоже были причины стараться расположить Солона в свою пользу. Став одним из директоров банка, он быстро сообразил, что было бы очень неплохо заручиться поддержкой такого союзника, как Солон, и иметь возможность всегда рассчитывать на его голос. Видя, что Солон — человек высоких нравственных правил, он часто заводил с ним разговоры о квакерском учении, всячески превознося преимущества этого учения. Как-то раз он пригласил Солона вместе с Бенишией к себе на обед. Говоря о своем доме на Мэн-лайн, он всегда называл его «скромным», но когда Солон и Бенишия подъехали к этому дому в автомобиле, который прислал за ними предупредительный хозяин, их взгляду представился особняк, отделанный с кричащей роскошью, сразу оскорбившей сдержанный вкус Солона. Мишурное великолепие — так он назвал потом в разговоре с Бенишией этот вычурный фасад в стиле итальянских вилл, сад, разбитый по английскому образцу, и огромный вестибюль, увешанный картинами мастеров Возрождения и загроможденный всяким средневековым хламом.
Но все это были люди сильные и влиятельные, и Солону льстило их внимание. Поэтому, как уже не раз в жизни, он решил смотреть и слушать, сам ничего не говоря и бдительно оберегая себя от опасности впасть в заблуждение. Сказано же в Библии: «Будьте мудры, как змии, и просты, как голуби».
ГЛАВА XLVII
Гринвич-вилледж, начало двадцатых годов. То было время, когда вся атмосфера этого района Нью-Йорка необычайно благоприятствовала расцвету творческой деятельности. Население Гринвич-вилледжа почти сплошь состояло из людей, приехавших сюда в надежде стать писателями, художниками, танцовщицами, положить начало новому течению в театральном искусстве или основать журнал, единственное назначение которого — выражать взгляды редактора, вообразившего, что у него имеются взгляды, и на этом основании возомнившего себя достойным мировой славы. Были тут журналисты и адвокаты из Средне-западных штатов, которые пренебрегли налаженным, благополучным существованием, чтобы, вдохновляясь атмосферой Гринвич-вилледжа, попытать счастья на литературном поприще. Были девушки, приехавшие с далекого Юга в поисках знаний, волнующих приключений или просто заработка, так или иначе связанного с искусством.
Ибо здесь и в самом деле был центр творческой жизни, притягивавший даже тех, кто, не обладая никакими художественными дарованиями, жаждал хотя бы общения с людьми искусства. Многие покидали куда более комфортабельные квартиры в других районах или даже загородные виллы, и ютились здесь в каком-нибудь подвале или на чердаке. Привлеченные духом романтики, приключения, съезжались сюда со всех концов страны мужчины и женщины, одни — работать, другие — просто пожить в таком месте, где могло случиться самое неожиданное. И из этой массы, бродившей под действием творческой закваски, нередко выходили и добивались признания настоящие таланты — писатели, драматурги, критики, художники, музыканты и теоретики искусства.
Существенную роль в жизни Гринвич-вилледжа играли бесчисленные ресторанчики и подпольные кабачки (тогда в Америке еще действовал «сухой закон»). Были среди них такие, где за двадцать пять центов вы могли получить сносный обед — если соглашались предварительно вымыть посуду, помочь на кухне или обслужить двух-трех посетителей; и надо сказать, многие обитатели Гринвич-вилледжа пользовались преимуществами этой системы. Особенно популярен был ресторан «Голубой гусь». Он занимал просторное помещение в подвальном этаже, с низким потолком, на котором перекрещивались обнаженные балки, с огромным открытым очагом в одном конце; окна были завешаны темно-красными драпировками, на столах горели свечи, а в углу можно было всегда видеть парочку любителей шахмат, согнувшихся над шахматной доской.
Как-то сентябрьским вечером в «Голубом гусе» шло большое веселье. Посредине зала было сдвинуто вместе несколько столов, и вокруг них разместились пирующие. Виновником торжества был красивый, хотя немного растрепанный молодой человек, праздновавший свой день рождения, а заодно и другое радостное событие: в этот самый день крупная издательская фирма приняла к печати его первый роман. Прочие столики занимали обычные посетители ресторана; были среди них и знаменитости, и только еще восходящие светила, и просто наблюдатели нравов Гринвич-вилледжа.
За одним из таких столиков, у окна, из которого, несмотря на красные драпировки, порядком дуло, сидели две девушки; лица их казались розовыми в мерцании поставленной между приборами свечи. Одна — круглолицая, коротко подстриженная, похожая на рослого крепыша-мальчишку, другая — изящная, тоненькая, настоящая статуэтка, с бледным нежным личиком в ореоле шелковых пепельно-белокурых волос и голубыми глазами, удивленно скользившими по сторонам. Это были Волида Лапорт и Этта Барнс.