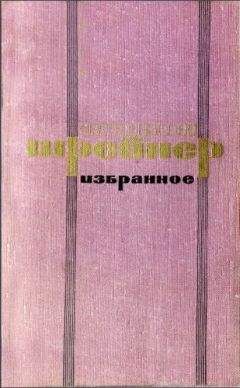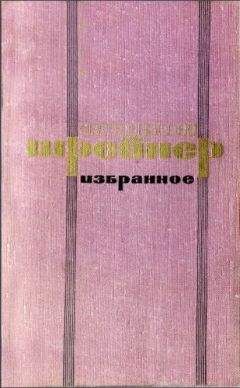Оливия Шрейнер - Африканская ферма
— О, дорогая, — сказал он, с нежностью склоняясь к ней и протягивая руку, — отчего вы не хотите вручить свою судьбу мне? Неужели вы меня покинете и уйдете к другому? Так, должно быть, и будет.
Она покачала головой:
— Зачем загадывать так далеко? Я уеду с вами.
— Когда?
— Хоть завтра. Я сказала на ферме, что еще затемно собираюсь к соседям. Из города я напишу и все объясню. Терпеть не могу упреков, уговоров. Я хочу разом порвать со всем окружающим, хочу исчезнуть бесследно. Вы понимаете, что это совершенно необходимо.
Он усиленно что-то обдумывал. Затем, помолчав, сказал:
— Что ж, это лучше, чем лишиться вас. Я согласен. Если вы настаиваете, пусть будет так.
Он сидел и смотрел на нее. На лице у нее было усталое выражение, которое так часто появлялось в последние дни. Особенно когда она оставалась одна. С тех пор, как они расстались, не прошло и двух месяцев, а время уже наложило на нее свой отпечаток. Он разглядывал ее, будто видел впервые, от гладко зачесанных каштановых волос до маленьких скрещенных ног. С измученным выражением лица она нравилась ему еще больше. Страдания и время, оставляя одинаково глубокие следы, по-разному пишут свою повесть: красивые лица, если они только красивы и ничего более, дурнеют, покрываются морщинами; но те, чья прелесть — в гармонии внутренней красоты и формы, обретают тем большее обаяние, чем ярче на них отражение внутренней жизни. Хорошенькая женщина увядает, едва блекнут розы на ланитах и уходит девичество; красивая женщина только и расцветает, когда у нее на лице начертит свои письмена прошлое, и никогда ее очарование не бывает так неотразимо, как в то время, когда уходит юность.
Он смотрел на нее проницательным взглядом из-под полуопущенных век. Она сидела, опустив плечи, утратив всю свою царственную осанку, поникшая, утомленная, и широко раскрытые глаза ее отражали отблески огня.
Она была явно не в силах противостоять ему. Ее слабость обессиливала и его.
Он притронулся к ее руке, покоившейся на коленях.
— Бедненькая! — сказал он. — Вы еще совсем дитя.
Она не отняла руки и только подняла на него взгляд.
— Вы очень устали? — спросил он.
— Да.
Она смотрела ему в глаза, как ребенок, уставший от долгой игры.
Он усадил ее к себе на колени.
— Бедненькая! — повторил он.
Она положила голову ему на плечо; он обнял ее сильной рукой и крепко прижал к себе. Затем он повернул к себе ее лицо, поцеловал ее и снова укрыл у себя на груди.
— Вы не хотите мне больше ничего, сказать?
— Нет.
— А тот вечер в аллее парка вы не забыли?
Она слегка качнула головой:
— Вам хочется отдохнуть, вы устали?
— Да.
Они сидели, не двигаясь, только иногда он подносил к губам ее руку.
Все это время Досс спал в углу. Неожиданно он поднялся и подошел к ним. Его жилистые ноги подрагивали, в желтых глазах таилось беспокойство. Он, видимо, опасался, что его хозяйку удерживают силой, и успокоился только после того, как Линдал встала и протянула руку за шалью.
— Мне пора идти, — сказала она.
Незнакомец заботливо укутал ее шалью.
— Вот так. И придерживайте здесь, у горла, Линдал: на дворе очень сыро. Позвольте мне проводить вас?
— Не надо… Ложитесь спать. В три часа я разбужу вас.
Она подставила ему лицо для поцелуя. Когда он поцеловал ее, она не переменила позы, и он снова поцеловал ее. Только после этого она ушла. Он пододвинул кресло к огню, и только сел, как дверь отворилась и Линдал снова показалась на пороге.
— Вы что-нибудь забыли?
— Нет.
Она обвела долгим взглядом так хорошо знакомую ей комнату и вышла. После того, как она закрыла дверь, незнакомец подсел к столу, наполнил стакан и стал задумчиво отхлебывать из него маленькими глотками.
Ночь стояла туманная, сырая. Бледная луна, с трудом пробиваясь сквозь душную мглу, освещала неверным, тусклым светом строения фермы. Камни и стены были в росе; и время от времени с карнизов крыш падали тяжелые капли. Досс, очутившись на холоде, подбежал к дверям кухни. Но Линдал медленно прошла мимо и вышла на извилистую тропинку, петлявшую вдоль каменных оград краалей. Миновав последний загон, она обогнула несколько больших камней и кустов и очутилась у могилы старого немца-управляющего. Она и сама не знала, зачем сюда пришла. Несколько минут Линдал стояла и молча глядела под ноги себе. Потом наклонилась и положила руку на мокрый камень.
— Больше я никогда не приду к тебе, — сказала она. И, опустившись на колени, припала лицом к камню. — Милый мой старик, милый мой старик, я так устала, — промолвила она (ибо с мертвыми мы делимся тайнами, в которых никогда не признаемся живым), — так устала. Ведь есть же в жизни радость, тепло… — простонала Линдал. — Отчего же я такая черствая и холодная, отчего же такая одинокая? Я сама себе опостылела. Это вечное копание в себе разъедает душу. Не могу больше, не могу дышать, не могу жить! Неужто ничто не освободит меня от себя самой? — Она прижалась щекой к деревянному столбу. — Я хочу любить! Хочу, чтобы нечто великое и чистое возвысило меня. Милый мой старик, я больше не-е-е мо-гу! Я такая холодная, такая черствая!.. Неужто мне никто не поможет?!
Шаль отсырела так сильно, что с нее падали капли росы, но Линдал не чувствовала этого. Она горько рыдала. Живому человеку свойственно оплакивать мертвого, земным созданиям свойственно взывать в слезах к творцу; и все тщетно. Простирающий руки к небу не обретет спасения; его не спасут ни бог, ни человек; только собственные усилия да страдания и время помогут ему спастись.
Досс дрожал от холода у дверей кухни, не в силах понять, куда запропастилась его хозяйка. Немного погодя он вздремнул, и ему приснилось, будто старый Отто дал ему ломоть хлеба и погладил по голове. Но, проснувшись, Досс еще сильнее застучал зубами от холода и перебрался на другую ступеньку крыльца, где было посуше… Наконец его хозяйка вернулась, и они вместе вошли в дом.
Линдал зажгла свечу и пошла в спальню тетушки Санни. Там она сняла с гвоздя под портретом красавицы ключ, отперла гардероб, выдвинула ящик и взяла оттуда пятьдесят фунтов — все свое состояние. Затем она закрыла шкаф и хотела было повесить ключ на место. Но вдруг остановилась в нерешительности.
— Пятьдесят фунтов за жениха! — неожиданно улыбнулась Линдал сквозь слезы. Она снова отперла дверцу шкафа и, выдвинув ящик, положила деньги сверху, чтобы Эмм могла их найти.
Затем она прошла к себе в комнату, уложила то немногое, что собиралась взять с собой, сожгла старые письма и вернулась в большую гостиную — посмотреть, который час. Оставалось еще два часа. Она села к туалетному столику и подперла голову руками. В зеркале отразилась ее темная головка с волосами, расчесанными на прямой пробор, и маленькие руки.
— Когда-нибудь я полюблю, полюблю всеми силами души, тогда я стану лучше, — сказала Линдал.
Она подняла голову и долго, в упор, рассматривала отражение своих темных больших глаз.
— Мы одни на всем белом свете, вы и я, — шептала она им. — Никто нас не понимает, никто не хочет помочь. Придется нам помогать самим себе. — В спокойной глубине ее глаз светилась уверенность в себе. Так они смотрели на нее еще в те времена, когда она была совсем крошечной девочкой в синем передничке. — Но пока мы вместе — вы и я, — мы не одиноки, и мы будем неразлучны, как тогда, в детстве, когда были совсем маленькими.
И прекрасные глаза, казалось, заглядывали ей в самую душу.
— Мы не боимся, мы сумеем постоять за себя! — сказала она. И приложила руку к зеркалу, словно хотела приласкать глаза, но рука наткнулась на холодное стекло. — Милые мои глаза, мы всегда будем вместе, вы и я, пока смерть нас не разлучит. До самого последнего мгновения!
Глава X. Отъезд Грегори Роуза
Грегори Роуз наводил порядок на чердаке хозяйского дома, а над головой у него по крыше стучал дождь. Кончилась полугодовая засуха, дождь лил теперь как из ведра, и почва уже не впитывала воду. Избыток ее сливался в бурные ручьи, ручьи сбегались в реку, а река свирепым пенистым потоком неслась через всю равнину. Даже небольшая канава между краалями и хозяйским домом превратилась в речку по колено глубиной, — с таким стремительным течением, что оно едва не сбивало с ног туземок. Дождь лил целые сутки не стихая. Куры сбились жалкими и унылыми кучками около сарая и внутри его, и только гусь, единственный уцелевший в засуху из всего своего племени, расхаживал взад и вперед, оставляя на размокшей земле перепончатые следы, тут же смываемые проливным дождем. В одиннадцать часов утра ливень хлестал по крышам и стенам с неослабевающим упорством.
Грегори не обращал на дождь никакого внимания. Он только заткнул мешком дыру в разбитом слуховом окне. Перекрывая шум дождя, из открытого люка доносился снизу звонкий голос Эмм. Она распевала в столовой «Ах, синее море».