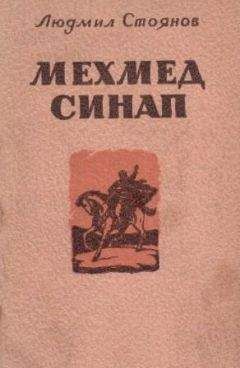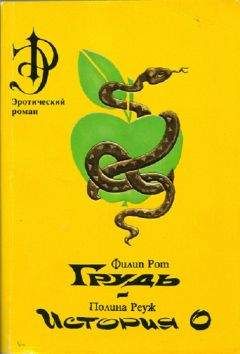Людмил Стоянов - Избранная проза
«А вы что, не голодные, есть не будете?»
Наконец Лазар, отбросив стыд, останавливает одного из санитаров:
— Нельзя ли перекусить чего-нибудь?
Тот удивленно вскидывает глаза и, не останавливаясь, говорит:
— Вы еще со вчерашнего вечера выписаны. На вас не подано заявки.
— Да ну? Что же нам делать?
Пройдя несколько шагов, он отвечает:
— Не знаю. Спросите у начальства.
Мы переглядываемся, ошеломленные. Голод скребет у нас внутри, словно кошка. Илия, который лучше нас знает порядки, уверяет, что этого быть не может, что нам, по крайней мере, должны выписать хлеба и сыра, — он ведь сам был каптенармусом, взводным унтер-офицером и знаком с этими делами. От этого, однако, нам не легче. С подноса поднимается белый пар, запах супа мгновенно ударяет нам в нос и опьяняет, как опиум. В глазах возникают гастрономические видения: длинный стол и на нем — всевозможные яства…
— Я сейчас от голода хлопнусь в обморок, — произносит Лазар.
— Нужно что-то сделать, — добавляет Илия. — Что же они теперь, голодом, что ли, собираются нас уморить?
Мы отправляемся на розыски каптенармуса. Это белотелый упитанный человек, по виду еврей. Он внимательно выслушивает нас, вытянув шею, словно дело касается очень важной военной тайны.
— Голуби вы мои, да вы уже выписаны и сняты с довольствия… Что же мне с вами делать?
— Но, господин начальник, не подыхать же нам с голоду. Ведь нам предстоит еще добираться до Кюстендила — нужно же перехватить чего-нибудь?
Он погружается в размышления.
— Скажите на складе, чтоб вам выдали по буханке хлеба.
Лазарь недовольно бормочет:
— Хлеб… Что нам один хлеб… Больным быть плохо, а здоровым — еще хуже…
Каптенармус пожимает плечами.
Наши испытания на этом не кончаются. Кладовщик отказывается выдать нам хлеб без записки. Заперев склад из боязни, как бы мы самовольно не залезли туда, он отправляется по начальству. Возвратившись, снова отпирает склад, копается в каких-то ящиках и наконец подает нам по буханке черствого хлеба и завалявшийся кусок сыра.
— Это — от меня, — заявляет он с таким важным видом, словно мы должны целовать ему руку за оказанное благодеяние.
— Врет, — говорит Лазар, после того как мы отошли от склада. — Врет, что от него. Да разве бы этот трус посмел? Не иначе как тот, толстый, сказал: дай им там еще по куску сыра; словно кость собакам…
Мы уже явно находимся вне больничного мира: мы посторонние, у нас иные интересы. Поскорей бы распрощаться с товарищами и убраться отсюда.
— Лазар, — говорю, — я подожду вас наверху, на дороге. Не задерживайтесь…
— Ладно.
Пробираюсь сквозь заросли ежевики и выхожу на тропинку, что идет вдоль холерного кладбища. Новые ряды безымянных крестов выросли тут за эти пятнадцать дней. Их низко распростертые над землей руки словно умоляют о милости или посылают вечное проклятие.
Вот они, самые свежие могилы. Земля на них еще сырая. На кресте, прячущемся в тени диких груш, с трудом различаю: «Подпоручик Милан Костов». Ощупываю карман куртки. Да, да. Передам. Спи спокойно.
Здесь же, справа, другая знакомая могила. Надпись едва можно разобрать: «Ефрейтор Стаматко Колев». Через месяц-два от нее не останется и следа.
Нагибаюсь и бросаю на могилы по белой ромашке.
Поражение
Дорога идет через пересеченную, открытую местность, большей частью вдоль садов и полей. Скирды убраны, лишь кое-где желтеют оставшиеся снопы. В селах усиленно молотят.
— Что за народ, — удивляется Илия, — тут война, холера, а ему все нипочем — знай себе землю обрабатывает…
— Есть-то надо, — вставляет Лазар, — ведь земля хлеб дает. В самом деле, работают, как волы, и все только для того, чтобы обеспечить себе хлеб насущный…
На лугах вдоль дороги расположились различные тыловые части: переночуют ночку-другую и трогаются дальше. Это наносы реки, возвращающейся в свое русло. Людские потоки текут вспять, к своим истокам. Невеселая картина, — нет в ней ни величия, ни трагизма.
Время от времени сворачиваем в какой-нибудь сад, чтобы набрать слив или яблок, которые нас так соблазняют; с простодушием Адама в раю протягиваем к ним руки и безо всякого угрызения совести продолжаем свой путь.
— На войне, как на войне, — говорит Лазар, — не то сиди дома и не рыпайся.
Тяжело идти по неровной дороге, которая то спускается, то поднимается по холмистым желтым полям. Ноги еле держат нас, мы все еще очень слабы. Телеги попутной не попадается; все они движутся навстречу нам, к фронту. А если и обгоняет какая-нибудь обозная подвода, так она перегружена фуражом или всевозможным больничным инвентарем. К тому же мы представляем собой крайне подозрительную команду: наш вид внушает страх. Дети, играющие вместе с курами и поросятами на сельских площадях, завидев нас, благоразумно разбегаются, прячутся за плетнями и следят за нами издали.
Солнце давно перевалило за полдень, но летний день долог. Будь мы здоровы, мы бы к вечеру добрались до Кюстендила, но мы проходим едва по два километра за час, поэтому нам придется, как видно, заночевать в каком-нибудь селе.
Нас обгоняют группы солдат, отбившихся от своей части, а мы, в свою очередь, обгоняем других. Некоторые разлеглись в тени около шоссе, лениво потягиваются и зевают, вознаграждая себя отдыхом за долгие месяцы тягостной дисциплины. Потом идут дальше, с посвистом, бранью и солдатскими прибаутками, как люди, далекие от каких бы то ни было забот. Винтовки их обращены стволами вниз, шапки сдвинуты на затылок.
— Э-э-эх, черт побери! Хорошее дело свобода!
Свобода опьяняет их и лишает рассудка, словно вино или взгляд разбитной бабенки.
И все же дорога почти безлюдна, она тонет в легкой дымке, в прозрачном тумане пыли, поднятой редкими повозками и пешеходами. Живые мощи, мы плетемся с трудом, обливаясь потом, запыленные, как мельники, к великому удовольствию Лазара Ливадийского, который не может забыть мельницы, где он лежал больной, скрежета мельничных шестерен, серой мучной пыли…
— Как только доберусь до дому, напишу «Письма с моей мельницы»[33], — говорит он с иронией и сокрушенно добавляет: — Есть о чем написать… Об одних только мельничных вшах рассказать — уже достаточно.
Илия Топалов замечает:
— Ты, Лазар, что-то уж очень распоясался, а стоит только показаться фельдфебелю Запряну, как сразу вытянешь руки по швам…
— Как бы не так! Меня даже досада берет, что война кончилась, а то бы я дослужился до офицера и вернулся бы опять в нашу роту. Вот было бы дело! Поглядел бы ты тогда, как Запрян стоит навытяжку передо мной!
Эта мысль так развеселила его, что он не может успокоиться. Он хохочет, хлопает себя по бедрам и весь сияет, представляя, как заставил бы Запряна козырять ему.
Идем против солнца, и от этого путь вдвойне утомителен. Оно спустилось уже низко к западу, и лучи, льющиеся на убранные поля, ослепляют нас. Вряд ли мы до вечера попадем в Кюстендил; мысль о ночевке начинает тревожить нас.
— Остановимся в какой-нибудь сельской корчме — и все тут, — быстро решает Лазар.
— Конечно, только нас и ждут, сейчас самая страда, — возражаю я.
— Что мы, не можем устроиться в какой-нибудь копне? — прибавляет Илия.
— А хлеб? — вспоминает Лазар.
Выданный нам хлеб давно съеден… Мы съели его, как просфору, после которой сливы показались прекрасным десертом.
— Я голоден, как цыган, — продолжает Лазар. — Интересно, если б мой профессор политической экономии увидел, в каком я состоянии, посмел бы он отрицать значение «объективного фактора» в истории? Вот оставить его на мельнице да подвергнуть нападению «белой кавалерии» — ха-ха-ха! — тогда бы он сразу понял, имеет ли значение «объективный фактор»!
Мы не можем нарадоваться тому, что здоровы. Взявшись за руки, словно дети, раскачиваемся из стороны в сторону, как раскачиваются в танце парни, и напеваем про себя — каждый свою любимую песню!
— Где кмет?[34]
Человек пожимает плечами.
— Почем я знаю? По делам, должно, пошел…
— Как так по делам? Кмет он или кто?
Лазар начинает сердиться. Мы стоим на сельской площади и высматриваем, под каким бы кровом переночевать. Человек растерянно глядит на нас, моргает и не знает, что сказать. Наконец, отведя взгляд в сторону, говорит:
— Он прячется…
— Кто, кмет?
— Да.
— Почему?
— Да ведь… то и дело пристают с разными там поборами… то муку подай, то сено… А в селе уж и так пусто. Может, и вы из таких же…