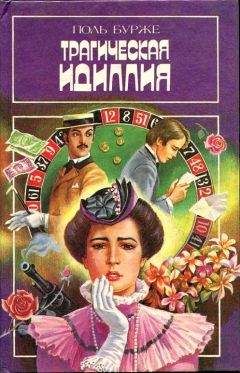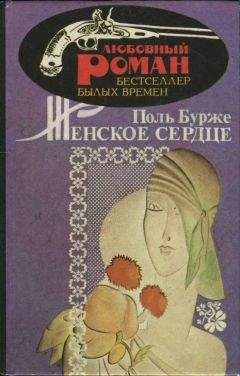Поль Бурже - Ученик
Ведь Шарлотта была вынуждена терпеть мое присутствие. Как бы она ни относилась к этому, нам предстояло встречаться с нею у постели ее брата. И в первое же утро по приезде в замок, часов в одиннадцать, когда как раз настала моя очередь дежурить у больного, я застал ее в комнате Люсьена; она разговаривала с ним, а маркиза, стоя у окна, шепотом расспрашивала сестру Анакле. От больного скрыли предстоящий приезд матери и сестры, и теперь в его нервных движениях можно было заметить ту возбужденную, почти лихорадочную радость, какая бывает у выздоравливающих. Он весело улыбнулся мне и, взяв меня за руку, сказал сестре: — Если бы ты знала, как заботился обо мне господин Грелу! Шарлотта ничего не ответила, но я заметил, что ее рука, лежавшая на подушке возле головы брата, вздрогнула. Она сделала над собой усилие и посмотрела на меня, но не выдала своих чувств. Зато мое лицо, по-видимому, выражало сильное волнение, и это ее тронуло. Она поняла, что не отозваться на невинную фразу мальчика значило бы огорчить меня, и мягким, задушевным голосом прежних дней, в котором чувствовалось приглушенное биение трепещущего сердца, она сказала, не обращаясь прямо ко мне: — Да, знаю… И очень благодарна ему. Мы все ему очень благодарны…
Больше она не прибавила ни слова. Но я уверен, что, если бы я снова взял ее за руку, она упала бы в обморок, — так она была потрясена этим незначительным разговором. Я пробормотал что-то невнятное, вроде того, что, мол, все это вполне естественно. Я и сам не очень-то хорошо владел собою. Но Люсьен, не заметивший ни волнения сестры, ни моего смущения, продолжал: — А Андре? Он навестит меня? — Ты же знаешь, что он не может оставить полк, — сказала Шарлотта.
— А Максим? — не унимался мальчик.
Я уже знал, что так зовут жениха Шарлотты. И едва было произнесено это имя, как ее бледное лицо запылало. Наступило недолгое, молчание, во время которого я явственно слышал тихий шепот сестры Анакле, потрескивание огня в камине, мерный стук маятника. Мальчик, удивленный этим молчанием, продолжал: — Так как же? Максим тоже не приедет? — Господин де План тоже уехал в полк, — ответила Шарлотта.
— Вы уже уходите, господин Грелу? — спросил Люсьен, когда я порывисто поднялся с места., — Я сейчас вернусь, — сказал я. — Я забыл письмо у себя на столе…
И я вышел, оставив Шарлотту у постели больного.
Она снова побледнела и потупилась.
Ах, дорогой учитель! Мне хочется, чтобы вы поверили тому, что я сейчас расскажу вам, и чтобы вы не сомневались, что в те минуты я был вполне искренен, несмотря на всю сумятицу моих чувств, которых я сам тогда не мог понять. Мне и самому так необходимо быть в этом уверенным! Я не лгал тогда. Поверьте мне! Не было и капли притворства в том внезапном движении, с каким я вскочил при одном упоминании имени человека, которому Шарлотта должна была принадлежать, уже принадлежала. Не было никакого притворства и в слезах, брызнувших у меня из глаз, едва я переступил порог, и в тех, что я проливал ночью, в полном отчаянье от вдвойне мучительной очевидности, что мы любим друг друга, но никогда, никогда не будем друг другу принадлежать! Не былр притворства и в той боли, которую я испытывал в ее присутствии в последующие дни. Осунувшееся лицо, ставший еще более хрупким силуэт Шарлотты, ее страдальческий взор неотступно были передо гяною и терзали меня; ее бледность раздирала мне сердце, изящные линии тела доводили мою страсть до исступления, но глаза ее умоляли меня: «Ни слова…
Я знаю, вам тоже тяжело. Но было бы слишком жестоко с вашей стороны упрекать меня, жаловаться и обнажать предо мною свои раны…» Ну, скажите, если бы я не был тогда чистосердечен, разве я упустил бы удобный случай, тем более, что каждый час был у меня на счету? Но я не припомню, чтобы у меня были какие-то мысли, какие-то планы. Мне запомнился только как бы вихрь чувств, что-то обжигающее, неистовое, невыносимое, да еще угнетенное нервное состояние, продолжительная колющая боль во всем теле и все крепнувшая мысль о необходимости покончить со всем этим, мысль о самоубийстве… Когда, в связи с каким именно приступом отчаяния она возникла у меня? Этого я не могу сказать. Но вы же видите, что тогда я любил искренне, раз все мои хитросплетения вдруг расплавились в огне этой страсти, как свинец в рдеющих углях, Я не могу анализировать своих переживаний, потому что это было настоящим умопомешательством, мучительным отречением от своего «я». В этой мысли о смерти, исходившей из самых темных глубин моего существа, в этом безотчетном стремлении к могиле, овладевшем мною, как физическая жажда или голод, вы узнаете, дорогой учитель, неизбежные последствия того «любовного недуга», который вы так подробно изучили. Тут сказывался обратившийся на меня самого инстинкт разрушения, который, как вы отмечаете, таинственно пробуждается в человеке одновременно с половым инстинктом. Сначала это выразилось в бесконечной усталости, усталости невысказанных переживаний, так как глаза Шарлотты при встрече с моими защищали ее лучше, чем любые слова. К тому же мы никогда не оставались наедине, если не считать редких, минут в гостиной, однако и эти случайные минуты проходили в глубоком молчании, точно кто-то железной рукой сжимал мне горло. Сказать тогда что-нибудь было для меня так же невозможно, как для паралитика сделать движение. Не помогло бы здесь даже сверхчеловеческое усилие. Только на опыте познаешь, что на известной ступени человеческое волнение становится непередаваемым. В такие мгновения чувствуешь себя замурованным в своем «я», и тогда хочется вырваться из этого страдающего «я» и броситься, погрузиться в смерть, погибнуть в ее прохладе, где всему наступает конец… Все это сопровождалось безумным желанием оставить в сердце Шарлотты неизгладимый след, дать ей такое доказательство своей любви, которое никогда не могли бы затмить ни любовь ее будущего мужа, ни роскошь, в какой ей суждено было жить. «Если я умираю от отчаяния, что мне предстоит вечная разлука с нею, — думал я, — то пусть она по крайней мере дол го, очень долго помнит о скромном воспитателе, о бедном провинциале, способном на такое большое чувство!..» Мне кажется, что я правильно формулирую тогдашние свои мысли. Обратите внимание: я говорю «кажется», ибо в те дни я действительно не был в состоянии понять самого себя. Я не узнавал себя в пожиравшей меня необузданной и трагической лихорадке. Только с большим трудом я мог различить в этом сумбуре мыслей то, что вы называете самовнушением. Я гипнотизировал себя и именно в состоянии сомнамбулизма решил покончить с собой в такой-то день, в такой-то час и отправился к аптекарю, чтобы раздобыть роковой пузырек с чилибухой.
Во время этих приготовлений и под влиянием принятого мною решения я уже ни на что не надеялся и ничего не обдумывал, На меня действовала какая-то сила, совершенно чуждая моему сознанию. Нет! Никогда в жизни — я не был до такой степени только зрителем — я сказал бы, равнодушным зрителем — своих движений, мыслей и поступков при почти абсолютной независимости действующего начала от начала мыслящего. (Вы найдете несколько слов об этом состоянии на титульном листе моего экземпляра книги Бриера де Буамона, посвященной самоубийству.) При этих приготовлениях я испытывал непередаваемое чувство сна наяву, ясно ощущаемый автоматизм.
Я приписываю эти странные явления нарушению нервной системы, которое граничило с помешательством и было вызвано навязчивой идеей. Лишь утром того дня, который я назначил для самоубийства, мне пришло в голову сделать последнюю попытку повлиять на Шарлотту. Я сел за стол, чтобы написать ей прощальное письмо. Я уже представлял себе, как она будет читать его, и неожиданно у меня возник вопрос: «А как же она поступит? Неужели известие о моем самоубийстве не взволнует ее? Неужели она не бросится стремглав, чтобы помешать мне? Да, она, наверное, прибежит в мою комнату найдет меня мертвым… Может быть, следует произвести еще один, последний опыт, прежде чем покончить все расчеты с жизнью?» Тут я вполне отдаю себе отчет в своих помыслах. Я знаю, что именно так родилась у меня эта надежда и именно в это мгновение. «Ну что ж, — сказал я сам себе, — попробуем!» Я решил: если до полуночи Шарлотта не придет ко мне, я приму яд.
Я уже изучил его действие. Я знал, что смерть наступит почти мгновенно, и надеялся, что мне не придется долго страдать. Как ни странно, весь тот день прошел для меня в особенном спокойствии. Должен отметить и следующее. У меня как будто гора свалилась с плеч, словно бы я освободился от самого себя. Тревога охватила меня только часов в десять вечера, когда я первым ушел из гостиной и положил свое письмо на стол Шарлотты, в ее комнате. В половине одиннадцатого я услышал через приотворенную дверь шаги маркизы, маркиза и Шарлотты. Они поднимались к себе и остановились в коридоре, чтобы обменяться еще несколькими словами. Потом до меня до неслись обычные пожелания спокойной ночи, и все разошлись по своим комнатам… Одиннадцать часов…