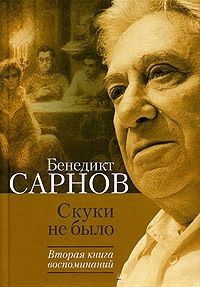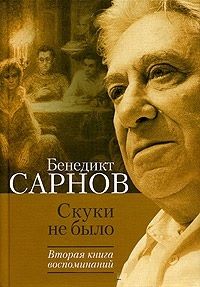Борис Балтер - До свидания, мальчики!
– Так… Просьба у меня к тебе. Витька – он как цыпленок, догляди за ним.
– Все будет хорошо, дядя Петя. Вот увидите, все будет хорошо.
– Хорошо, коль увижу. – Дядя Петя взъерошил мне волосы и хлопнул по спине. Он вернулся к тете Насте и к Витьке, а я подошел к вагону и встал против входа на перрон, чтобы не прозевать маму. В вагонном окне стоял Павел.
– Чем дольше живу, тем больше радуюсь: хорошо, когда родственников нет, – сказал он.
Катя и Женя прогуливались под руку. Иногда подходили к Сашке и Витьке, о чем-то переговаривались и снова прогуливались. Им тоже было хорошо: через две недели и они поедут в Ленинград. Женя уже получила вчера вызов из консерватории. Катя и Женя подошли ко мне. Катя сказала:
– Знаешь, что мы решили? Побудем сегодня на вечере, а завтра поедем к Инке.
– Правильно решили, – сказал я. Они отошли и, кажется, на меня обиделись.
А мамы все не было.
Пробил третий звонок, и вдруг все вспомнили, что еще не сказали самого главного и, по сути, еще не простились. К вагонной лесенке нельзя было подойти. Сашкина мама стояла впереди всех, и Сашка из тамбура кричал ей:
– Что ты меня оплакиваешь? Я же не покойник!
Вера Васильевна крикнула:
– Пропустите Володю!
Она подталкивала меня и говорила:
– Можешь всегда на меня рассчитывать.
Пока я пробивался к подножке, меня трогали за плечи, желали счастливого пути, кто-то поцеловал – кажется, тетя Настя. Вагон вздрогнул, я встал на подножку и тогда увидел маму. Она шла от головы поезда. Она, наверно, понимала, что опаздывает, и потому шла от головы, чтобы не пропустить мой вагон. Поезд медленно катился, и слышно было, как буксовал паровоз. Я спрыгнул на перрон и побежал навстречу маме. В толпе не так-то легко было ее найти. Мы столкнулись неожиданно и обнялись. Мимо катился мой вагон. Сашка с Витькой кричали и протягивали мне руки. Я встал на подножку. Мама шла рядом, подняв ко мне лицо. Из-под кепи выбивались влажные седые волосы, и по вискам текли струйки пота. Мама начала отставать, вагон выкатился из-под вокзального навеса на солнце, мама шла и смотрела на меня и к концу перрона вышла впереди всех. Я помню маму на конце перрона в ее черных туфлях с перепонками, в канареечного цвета носках и длинной юбке. Ноги у мамы были как мраморные: белые в синих прожилках.
Больше я маму никогда не видел, даже мертвой…
На узловой станции московские вагоны отцепили до прихода поезда Симферополь – Москва. Мы уже были на перроне, когда маневровый паровоз потащил вагоны на запасный путь. Мы стояли на пустом перроне. Впервые за нашей спиной не было опекающих глаз, и отныне мы были подотчетны в своих поступках только себе. Такое дано испытать раз в жизни, когда навсегда покидаешь дом, и если когда-нибудь вернешься в него, то уже гостем.
– Живешь – до всего доживешь, – сказал Сашка. – Так постараемся подольше не умереть.
День разгулялся. Сквозь подошву туфель чувствовалось тепло нагретых солнцем плит. Мы пошли в станционный буфет пить крем-соду. Она была холодной и шипучей. Мы выпили столько, что трудно было дышать, и одновременно полезли в карманы, чтобы расплатиться. Я достал свой новый кошелек – мамин подарок.
– Покажи сюда, – сказал Сашка. Он вертел в руках кошелек, и Витька заглядывал через его плечо: ни у него, ни у Сашки кошельков не было. Павел у стойки пил пиво, смотрел на нас и посмеивался.
– Может, дернем чего-нибудь покрепче? – спросил он.
– В такую жару сам пей покрепче! Мы на себя не обижены, – сказал Сашка.
– С тоски подохнешь от таких попутчиков, – сказал Павел.
Сашка и Витька немедленно отправились в город покупать кошельки. Павел беседовал с буфетчицей.
– Налей, милая, стакан чистой и дай что-нибудь понюхать.
– Вам правильно молодые люди подсказали: жарко пить, – сказала буфетчица.
– Так это профессора, – сказал Павел. – Их слушать – с тоски повесишься.
Оба локтя Павла упирались в стойку. Буфетчица тоже прилегла на стойку, спрятав руки под грудь. Они почти касались головами и улыбались. Я взял для Алеши две бутылки пива: он остался в вагоне караулить вещи. В вагоне было душно и пусто: большинство пассажиров отправилось в город. Я вышел в настежь открытый тамбур. Его продувало насквозь, и здесь было прохладней. Я сел на подножку с теневой стороны. За путями начиналась степь и ярко блестело соленое озеро. Из него по каналу текла вода в карты на соляных промыслах. Пришел Витька и уставился на меня.
– Что с тобой? Где Сашка?
– Да в соседнем вагоне. Там дамочка едет с дочкой. Ты Инку видел?
– Когда?
– Сейчас. Я думал, она уже здесь. Мы с Сашкой ее видели: она на станцию шла.
Я спрыгнул с подножки и побежал к станции, прошел зал ожидания, вышел на улицу, снова вернулся на перрон – Инки нигде не было. На перроне стоял Витька.
– Вы говорили с ней? – спросил я.
– Нет. Сашка с той дочкой разговаривал. Мы думали, здесь ее увидим.
– Останься возле вагона и никуда не отходи, – сказал я.
Инку я нашел в палисаднике. Она сидела на тумбе ограды и медленно покачивала ногами.
– Инка, что ты здесь сидишь? Почему не подошла к вагону?
– Не хотела, чтобы ты меня видел.
– Почему?
– Так…
В глазах у нас еще что-то таилось от пережитого на пустыре, и потому мы не могли долго смотреть в глаза друг друга. Между тумбами было вделано по три трубы – одна над другой. Я сел на верхнюю и все равно сидел ниже Инки.
– Завтра к тебе приедут Катя и Женя.
– Пусть приедут. Я сегодня тоже норму не выполню. Тех, кто не выполняет норму. Юрка сажает за стол отдельно от всех, чтобы все их видели. Я все время сижу отдельно от всех.
– Не будем говорить о Юрке. Давай о себе поговорим.
– Давай.
– У меня такое чувство, как будто я в чем-то виноват перед тобой. Наверно, виноват…
– Ни в чем ты не виноват. И не надо говорить. Не надо об этом говорить, пока я не приеду в Ленинград.
– Ты приедешь?
– Наверно, приеду. Ты не слышал, что я тебе крикнула, когда ты уходил? Не слышал?
– «Вон парус»?
– «Вон парус» я раньше крикнула. Я очень рада, что ты не слышал.
– Что ты крикнула?
– Этого я тебе никогда не скажу… А может быть, скажу, если приеду в Ленинград. Я так боялась, что ты слышал. – Инка сверху из-под ресниц поглядывала на меня, чуть кося глазами. Она до половины сняла старенькие лодочки, и они держались на пальцах. На влажной ступне четко обозначалась кромка пыли. – Володя, я пойду, – сказала Инка и продолжала сидеть.
– Подожди, до поезда еще двадцать минут, – сказал я.
– Я не буду ждать поезда. Мне же еще идти семь километров, а потом я еще должна работать. Я с обеда ушла.
– Хочешь есть?
– Нет. У тебя деньги есть? Купи мне черешни. Я шла через базарчик и видела черешни.
Мы вышли из палисадника.
– Сашка и Витька тебя видели. Ты к ним не подойдешь?
– Нет.
На пристанционном базарчике я купил Инке большой кулек черешни. Я обнял Инку и поцеловал. Мы поцеловались торопливо, потому что стеснялись посторонних. У Инки были полные глаза слез, но она не плакала. Она пошла от меня, и на ходу ела черешни, и сплевывала под ноги косточки.
– Из молодых, да ранние, совести нет, – сказала женщина, торговавшая шкатулками из ракушек. Я стоял и смотрел, пока Инка не повернула за угол, а потом сказал:
– Тетенька, а зачем человеку совесть?
– Оно и видно, что тебе она ни к чему.
Я не стал говорить с этой разомлевшей от жары женщиной. На первом, пути стоял наш поезд. На перроне на меня налетел Сашка и начал орать:
– Где тебя носит? Я обегал всю станцию.
– Не ори, – сказал я. – Ходил смотреть город.
– Инку видел?
– Померещилась вам Инка.
– С ума сойти. Я же видел ее собственными глазами.
– Надо было подойти.
– Но она шла на станцию. Кто мог подумать, что она идет не к нам?
Мы прошли к нашему вагону. Возле него стоял Витька.
– Ты слышал? Оказывается, Инка нам померещилась. Оказывается, мы с тобой психи, – сказал Сашка. Витька смотрел на меня и молчал. К вагону подошел Павел. У него блестели глаза, и он несколько раз провел рукой по воздуху прежде, чем ухватился за поручни.
– В Джанкое буду опохмеляться. Разбудите, – сказал он.
Пробило три звонка, и пассажиры бросились к вагонам. Мы прошли до второго тамбура. Я остался в тамбуре. Сашка тоже хотел остаться, но Витька втолкнул его в вагон. За станцией горячий ветер ворвался в отворенную дверь. По глазам ударило море – густо-синее, в белых барашках. На пустой дороге я увидел маленькую фигурку, и на таком расстоянии не понять было, идет она или стоит на месте. Я спустился на последнюю ступеньку и провис на поручнях. Ветер рвал на мне рубашку, близко под ногами пролетала назад земля.
– Инка, моя Инка!
Ветер заталкивал в рот слова, а грохот поезда заглушал голос.