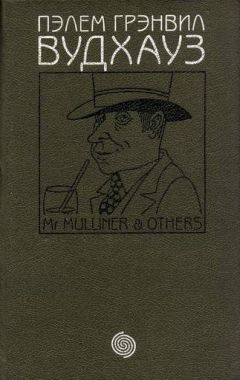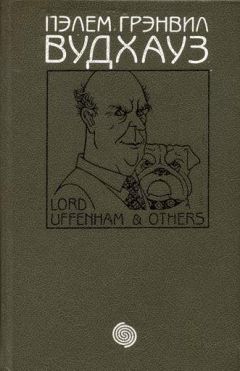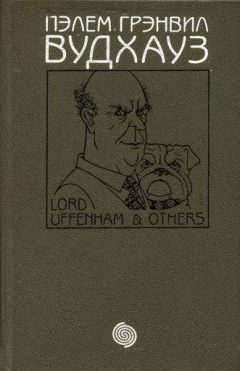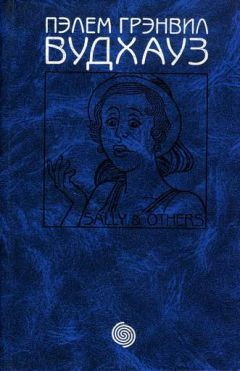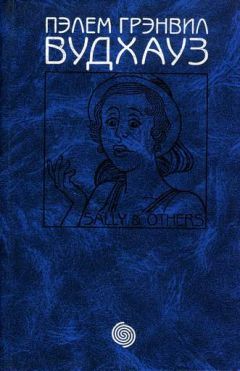Пэлем Вудхауз - Том 4. М-р Маллинер и другие
— Что же вы делали?
— Гнались в такси за девицей.
— Я думал, это не в вашем вкусе.
— Вообще-то нет, но он настаивал.
— Дурак, честное слово! Играет с огнем.
— Вы думаете?
— Конечно. Да она его женит в два счета!
Траут на это не ответил. Юристы — те же дипломаты, а он не хотел соблазнять друга.
— Дома он?
— Нет, ушел погулять. Мрачный, как дождливый день в Питсбурге. Не знаю, что с ним.
— Любовь, Айвор, любовь. Любовные горести. Она не желает его видеть.
— Вот и радовался бы.
Траут передернулся, как викарий, услышавший богохульство, но между двумя па спросил невзначай, не знает ли Айвор, как зовут эту девушку.
— Знаю, — отвечал тот. — Я ей давал интервью. Салли Фитч. Вы слышали песенку, Кол Портер поет — «Мамаша Фитч, папаша Фитч»?
— Нет, не слышал.
— Очень хорошая. Я ее исполняю в ванне.
— Да? Надо бы послушать.
— Загляните как-нибудь с утра, так в полдесятого. Прихватите плащ, я брызгаюсь. Ее без жестов не споешь.
Лльюэлин замолчал. Друг его плавал по комнате, словно прима в «Лебедином озере», а ему это не нравилось. В конце концов юрист — одно, танцор — другое. Именно тут он заметил в Трауте что-то такое, странное, словно он, по слову поэта, росой медвяною питался,[41] пил молоко из райских кущ.
— Зачем вам знать, как ее зовут? — не без резкости спросил Лльюэлин.
— Хочу к ней зайти, — охотно отвечал Траут. — Адрес я случайно знаю. Понимаете, надо их помирить. Нехорошо, когда два юных сердца разлучены недоразумением. Во всяком случае, мне это не нравится. Кто я, в конце концов, Томас Харди?
Лльюэлин совсем растерялся. Выговаривал Траут четко, но слова его не имели смысла. Если бы он стоял на месте, друг метнул бы в него укоризненный взгляд, но как его метнешь в движущуюся цель?
— Траут, — сказал Лльюэлин, — вы насосались.
— Ну, что вы!
— Тогда чего вы порете чушь? Еще вчера… Фразы он не кончил, ибо зазвонил телефон.
— Подойдете, а? — попросил он. — Меня нет дома.
Первые же слова повергли магната в дрожь, хотя он и обрадовался собственной мудрости.
— Да, madame?
Конечно, Лондон кишит всякими madame, но у них, подумал он, нет его телефона. Изнемогая от страха, магнат затаил дыхание.
— Боюсь, — говорил тем временем Траут, — что его сейчас нет, но он скоро вернется. Я ему передам, что вы звонили. Конечно, конечно. Он будет очень рад. Всего вам хорошего, madame. Какая погода, а? Хе-хе. Всего хорошего.
— Мисс Далримпл, — сообщил он, повесив трубку. — Хочет послезавтра пойти в ресторан. Позвонит в полвосьмого.
Если бы в этот миг к ним зашла Леди из Шаллота, Лльюэлин хлопнул бы ее по плечу и сказал, что прекрасно ее понимает.
— И… вы… ей… сказали… что… я… буду… рад?.. — просипел он.
Человек, пораженный в самое сердце, реагирует одним из двух способов. Он орет и ругается (метод короля Лира) или как бы застывает. Лльюэлин, видимо, принадлежал ко второй школе. Да, он раздражался по пустякам, но в серьезных делах становился глыбой льда. Когда компания «Супер-Вайнштейн» увела у него двух лучших звезд, никто не догадался бы, что он страдает. Так и теперь он сказал едва ли не вкрадчиво:
— Значит, я буду рад? А вы понимаете, что в этом собачьем ресторане я сделаю ей предложение?
— И прекрасно! — отозвался Траут. — К сожалению, я ее не видел, но сразу понятно, что она очаровательна. Главное, Айвор, жениться на хорошей женщине. Кто это сказал, что холостяк — как осел в пустыне? Умный человек. Какое будущее у осла? Практически — никакого. Кому он нужен, кому он важен? Собственно говоря, вас холостяком не назовешь, но сейчас вы одиноки. Вне брака нет радости, Айвор. Тихие уютные вечера, она вяжет, вы склонились над кроссвордом… вы нужны ей, она — вам, оба вы нужны друг другу… Женитесь, Айвор, женитесь! Ведите ее в ресторан, возьмите за руку, скажите ей… О, Господи! Спешу. Надо к парикмахеру. Постричься, побриться, помыть голову…
К ощущениям Девы из Шалотта[42] прибавились ощущения Цезаря, когда его только что заколол Брут. Что-что, а доктрина Траута казалась устойчивой, как скала. Лльюэлин испытывал то, что испытал бы член парламента, если бы его собрат-тори воспел Карла Маркса.
Мы говорим, что потрясения обращали магната в глыбу льда. Но то потрясения обычные; что же до таких, оно повергло его в трепет. Он сидел в кресле и дрожал, когда вернулся Джо.
К великой своей чести, взглянув на него, душехранитель отринул на время собственные горести.
— Боже ты мой! — воскликнул он. — Что это с вами? Веру Далримпл он знал, и так расстроился, что схватил бы патрона за руку, если бы тот ею не размахивал. Он ясно видел, что пришло время кинуться на выручку.
— Мне это все не нравится, — сурово сказал он.
— А мне! — возопил хозяин.
— Нельзя идти с ней в ресторан.
— Конечно! Конечно!
— Значит, не идите.
— Как? Она позвонит послезавтра, в полвосьмого!
— А вас не будет.
— Куда же я денусь?
— В больницу.
— Куда?
— В больницу. Там опасности нет.
— Как я туда попаду? Что мне, под такси броситься? Нажеваться мыла?
— Ложитесь на обследование.
Лльюэлин посмотрел на Джо, как смотрит отец на сына, произнесшего первое слово.
— Пикеринг, — сказал он, — в этом что-то есть. Она меня не достанет.
— Ну, разве что навестит.
— В приемные часы.
— Когда шныряют сестры.
— Вот именно!
— Осторожно с виноградом.
— Не понял.
— Она принесет виноград. Не покупайтесь.
— Я скажу, мне доктор запретил.
— Склонность к аппендициту.
— То-то и оно. Пикеринг, вы — гений.
— Ну, что вы, что вы!..
— Знаете, что я сделаю?
— Не будете есть виноград.
— Да, конечно, но кроме этого. Экранизирую вашу пьесу.
ГЛАВА XI
Так же пылко, как мистер Лльюэлин (в подобные минуты не избежишь пылкости), Джо выразил свою благодарность, а хозяин его прибавил, что без Веры Далримпл все выйдет как нельзя лучше. Вера Далримпл, сказал он, намекала, что не прочь сняться в Голливуде, но если он допустит в те края эту грозную опасность, придется показать его психиатру.
— Ну, пакуйте! — закончил он.
— Что?
— Пакуйте мои вещи. Щетка, бритва, крем, пижама, Агата Кристи. Еду в больницу.
— Это не так просто. Тут нужен доктор, он выпишет направление.
— Кто вам сказал?
— И говорить нечего, это все знают.
— Все, но не я, — парировал Лльюэлин. — Куда же мне деться? Пойти на ночь в отель? Здесь я не засну ни на минуту.
— Она собирается к вам послезавтра.
— Врет. Усыпляет бдительность.
Закрыв за ним дверь, Джо предался разным чувствам. Конечно, он радовался, что волшебная палочка киномагната дала ему то, о чем он давно мечтал. Но к радости тут же примешалась скорбь: что слава, что богатство, если шансы разделить их с Салли — примерно один процент? Учитывая упорные отказы от беседы, опытный букмекер сказал бы, наверное, что и меньше.
Озадачил его и сам припадок. На здоровье он не жаловался, а мысль о том, что очень скоро он будет сидеть напротив Салли и к ним приблизится пресловутый скрипач, необычайно его укрепила. И вдруг — словно молния ударила.
Он страдал, звонил Джерри, тому было некогда (отец и девицы), тишина давила так, что помог бы только Перси, и к приходу Траута он совершенно пал духом.
Трауту он скорее удивился, чем обрадовался. Радости было бы больше, если бы тот пребывал в обычной меланхолии, но первый же взгляд показал, что почтенный законослужитель восседает на розовом облаке, обвившись радугой. Он еще не пел: «Тра-ля-ля»; не пел — но и только.
— Бр-р-р, — буркнул Джон.
— Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте! — возликовал мистер Траут, напоминая в этот миг дуэт из оперетты. — Вы бы видели, какое освещение! Лондон — просто сказочный. Поневоле вспомнишь строки… ну, такие, знаете… этакие. Лльюэлин дома?
— Нет, ушел.
— Еще лучше! Нам надо с вами потолковать. Помните, я говорил в такси о любви и о браке? Я ошибался.
— Вот как?
— Ошибался, это уж точно. Видимо, вы не слушали. Я их осуждал. С тех пор мои взгляды изменились коренным образом. Любовь движет миром. Да, да! Помню, была такая песня: «Полюби меня и я воскре-е-сну». Вот оно, Пикеринг! Золотые слова.
Джо с удивлением смотрел на него. Выговаривай он похуже, он усомнился бы в его трезвости; а так — растерянно ожидал разъяснений.
— Вы говорили, — не выдержал он, — что нам надо потолковать.
— Именно, именно. Но вы ничего не поймете, если я не скажу о себе совсем немного, — прибавил он, подметив, что Джо замигал, — в самых общих чертах.
— Детство, школу, колледж опустим?
— Естественно. Они тут ни при чем. Перейдем сразу к зрелым годам.