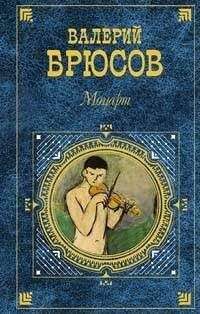Анна Бригадере - Бог, природа, труд
На улицу вышли поздно. Но горожане все еще шли и шли в сад, словно паломники. Глотнуть свежего воздуха на целую неделю, полюбоваться летней красотой. Река и луга возвращали дневную жару. Окна белого дворца пылали рубинами. Крохотная, словно утюг, моторная лодка стрекотала посреди реки. Лиелупе погасла, весь свой блеск и свое мерцание отдала глубине. Плеск весел. Далекие голоса. Прерванная песня. Вспыхнувший и погасший огонек.
Но почему все такое чужое? Почему холодом веет от этой большой реки и такими мрачными кажутся мосты над рекой? Ничто не радует, не веселит душу, на сердце становится все печальнее и печальнее. Отчего?
Липовая аллея погрузилась в густой мрак. Редкие прохожие, все больше по двое, тихо переговариваясь, проходят мимо, возвращаются и снова проходят мимо. Как и они, ходят из конца в конец аллеи.
Наконец тетушка трогает девочку за локоть. Пора домой! И произносит при этом:
— Жаль, жаль! Был бы свободный человек, хоть всю ночь ходи. О многом можно было бы подумать, о том, как день уходит, о том, как прошло время и вся жизнь.
Через несколько шагов она останавливает девочку:
— Слышишь, как пахнет! Вода, луга, елгавские сады. Розы, левкои, резеда, табак. Лето в самом зените.
Эхом откликаются на улице шаги.
Внезапно протяжные звуки, словно белые лезвия, пронзают вечерние сумерки.
Что это? Трубы?
Трубы и еще что-то, свистит, рвется, шипит, тает, шелестит.
— Это же музыка, — взволнованно воскликнула Аннеле. — Такую я в первый раз слышу.
— Концерт в саду Ширкенхефера. Музыканты из Риги. Вечер тихий, вот и слышно далеко.
— Ах, как хорошо.
— Вот видишь! И в городе своя прелесть есть.
«В городе!» — прошептала Аннеле, словно впервые услышала это слово, радостно вздрогнув от донесшейся волны звуков, которая полетела над черными лабиринтами крыш и погасла в воздухе, где зажглись уже бледные звезды. Город! Привыкнет ли она к нему? Нет, нет! Он будет для нее манящей, трудной загадкой. Он будет большой и трудной книгой. Хватит ли жизни, чтобы прочесть ее?
ПОД ПЛАКУЧИМИ ИВАМИ
Юная горожанка вскоре обросла обязанностями, словно стебелек листьями. Как только тетушка убедилась, что девочку можно посылать за покупками, она стала охотно пользоваться ее расторопностью, просила сбегать то за тем, то за этим. Вода, дрова, молоко, сахар, хлеб, когда ходила за ними Аннеле, появлялись в доме гораздо быстрее. Но вот Аннеле стали давать и более серьезные поручения — в мелочных лавках и галантерейных магазинах покупать швейные принадлежности, даже такие, которые требовали умелого подбора цветов, на что Лизиня обращала особое внимание. Иногда ее покупки хвалили, иногда строго критиковали, и приходилось идти менять их. Случалось это, когда она, не доверяя самой себе, поддавалась дипломатии ловких на язык лавочниц, против которой вооружена не была. Ее покоряла вежливость, она не умела отличать фальши от искренности, и обман обнаруживался, когда дома ругали ее за то, что поддалась лукавым словам и взяла то, что ей «всучили».
Но вот однажды улицы Елгавы необычно оживились. Словно ветры задули с тучных полей. Ворота постоялых дворов распахнуты настежь. А во дворах — что на базаре. По Большой улице одна за другой катились телеги. Некоторые уже стояли возле дверей мануфактурных магазинов. А внутри длинные очереди. Продавцы трудились в поте лица. Взвешивали селедку, соль, продавали мыло, свечи, да всего помногу. Иногда кто-нибудь из покупателей выйдет с кнутом в руках, загородит собой проем двери и зычным голосом — пусть хоть барабанные перепонки у елгавчан лопнут — крикнет «тпруу!» на свою лошадь, которая так и норовит покинуть свое место. Иная елгавская мадам, проходя мимо, только вздрогнет, словно оса ее ужалила, остановится, схватившись за грудь, сплюнет и в сердцах воскликнет: «Ах, ты, горло твое луженое!»
Одетый в черное альпака и шелк коллектив елгавских дам, который составлял, как говорится, большую часть городской публики, словно растворился, исчез с поверхности, уступив место необычному для города элементу: серому полусукну, широким юбкам, резиновым сапогам, которые расхаживали по тротуарам, волоча с собой громадные свертки в белых мешках или в клетчатых домотканых одеялах. Папаши, мамаши, деревенские парни. И девочки, девочки, с длинными и короткими, темными и светлыми косами, мальчики с белыми галстуками, обветренные, коричневые, словно шишки. Расхаживали группками, здоровались, перекликались через улицу. Болтовня, смех, счастливые глаза. Да, плодородные ветры принесли их сюда с полей. Завтра заполнят они школы, завтра первый школьный день.
Неужели прошло лето и настала школьная пора? Аннеле ходила среди толпы школьников немая и притихшая, словно помертвелая. Ей нечему было радоваться. Ее не ждала ни одна школа.
Зато дома ее ждал сюрприз и новая беда. Во всех углах тетушкиной квартиры валялись такие же мешки, с какими ходили сегодня по улицам: в них были яблоки, картофель, свиные окорока, кругляши масла, постельное белье. Приехали тетушкины пансионерки, дочери зажиточного хозяина из ближней земгальской волости. Приходилось уступить им место, то самое, которое до сих пор занимали сестры. Так неожиданно закончились короткие летние недели, которые провели они в добром согласии в тетушкином доме.
В тот же вечер сестры перебрались в нанятую квартиру. Бегали со своим скарбом точно так же, как несколько недель назад со станции на квартиру к тетушке. И точно так же посреди улицы ехал пустой извозчик. Цок-цок! И посматривал насмешливо сверху: «Ну, что, барышни, едем!»
Да, он-то мог смотреть свысока. Еще бы, елгавский извозчик, а они всего-навсего пешеходы.
Далеко пришлось идти. Кончились улицы и началось шоссе. Дома встречались редко, словно разбежались в испуге — там один, там другой. Пыльная листва деревьев, жалкие палисадники, лишь кое-где высится одинокая; красавица — яблоня или груша, усыпанная коралловыми плодами. Наконец подошли к тяжелым воротам, запиравшимся перекладинкой. Их встретил голый двор, в глубине которого торчало низкое строение. Там и была их квартирка. Две убогие комнатушки с некрашеными полами.
А за окном, выстроившись в ряд, белели кочаны капусты — словно пуговицы, нанизанные на нитку. Кое-где поле было разделено мелкой канавой или межой, шириной в локоть. А за нею опять кочаны капусты, крупные, зрелые, плотно прижавшиеся друг к другу — ни просвета между ними — тянулись далеко-далеко, насколько хватал глаз.
Хоть в одно окошко солнце заглядывает?
Нет, все окна выходят на север.
— Тоскливое место! — вздохнула Аннеле.
Приехала мать, привезла с собой прялку да чесалку, несколько мешков льна и шерсти. Ниток напрядет, отдаст Лаукмалихе и Мелнземихе за картошку, крупу, муку — это и будет ее заработок. Так сговорились.
В коридоре, разделяющем квартиры, темно. Здесь Аннеле часто встречается с чьей-то плотной тенью, которая метнется ей навстречу и словно нарочно толкнет в плечо. Аннеле никак не может понять, кто это.
По южную сторону коридора две такие же комнатушки, разделенные тонкой дощатой стеной. В кухне, одной для двух квартир, мать познакомилась с соседкой.
— Такая же вдова, как и я, — сказала как-то она. — Тоже муж умер, ничего не оставив, вот и живут, перебиваясь с хлеба на воду. У старшего сына хорошее место, он кое-что подбрасывает, да и сама не сидит сложа руки. Младший, тот, правда, еще ничего не зарабатывает, но ходит к какому-то Штесенагену книжки печатать.
— Не к Штесенагену, а к Штефенхагену, с «эф» и «ха», — поправляет Аннеле.
— Пусть так. Как мне сказали, так и я говорю.
— Так это ее мальчишка меня иногда в плечо толкает. Он нарочно это делает?
— Зачем же нарочно? В коридоре темно, вот и случается.
А то вдруг Аннеле, посланная за чем-нибудь, возвращается обратно, хватает зеркальце, внимательно вглядывается в свое отражение: не запачкан ли нос, не растрепались ли волосы? И чего этот мальчишка таращится, прилипнет к стене и смотрит, когда она бежит мимо?
Все в порядке: и лицо чистое, и волосы причесаны.
Но однажды случилось и вовсе ужасное. Столкнулись в самых дверях — она почти уверена, что мальчишка нарочно это подстроил, — он схватил ее руку и крепко сжал. Она сердито вырвалась. Вот еще! Здравствуйте сказать не умеет, а руки распускает!
Чего только не взбредет в голову этим городским мальчишкам! Видно, принято вышучивать здесь людей да рукам волю давать. Еще Милда рассказывала о распущенности горожан. Пусть только попробует!
Ивы вдоль шоссе пожухли, пожелтели, грязь вокруг непролазная. На огородах посреди высоченных пирамид капусты одиноко торчат кочерыжки. Но вот и капусту увезли на высоких дрогах в мастерские, где поджидали ее ножи и бочки для засолки.