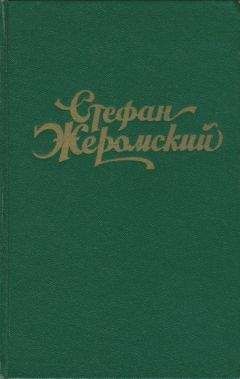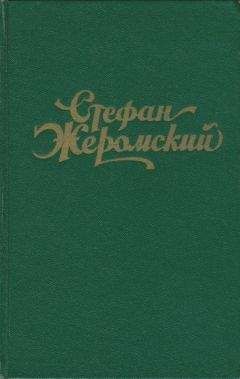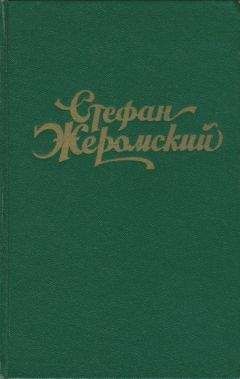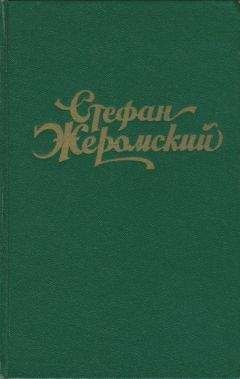Стефан Жеромский - Сизифов труд
Это паломничество отбывали все, но всех чаще Зыгер, Борович, Валецкий, Перцеед и семиклассник Анджей Радек. В девять, десять часов, когда Гонтала возвратившись с уроков и выпив чаю «у стариков», добирался до своего помещения, то, если ему хотелось увидеться с друзьями или просто было свободное время, он зажигал свечу и ставил на окно. Радек видел этот свет, сиявший вверху, словно далекая звезда, из своего окна, охраняемого веткой шиповника. Зыгер ежедневно часов около десяти улепетывал от своего Кострюлева и шел если не к Гонтале, то к Радеку. С последним его связывали узы дружбы не на жизнь, а на смерть…
Ввиду того что разговаривать в Радековой норе нельзя было, потому что за тонкой перегородкой подслушивал хлебодатель или благодетель Радека – пан Плоневич, они чаще всего уходили к Манеку, а в теплые вечера – за город, в поле. Собрания на чердаке были вполне безопасны: дверь в помещение запирали и ставили часовых в кухне у лестницы. Роль часовых con amore выполняли младшие Гонталы, с которыми за это обращались по-товарищески. Душой и руководителем был Зыгер. Благодаря его влиянию у всей этой кончавшей гимназию молодежи резко изменились направление и образ мыслей. Это не требовало, впрочем, ни слишком обширной эрудиции, ни особых усилий. В знакомые до сих пор этим юношам области словно бурный поток из внезапно открытых шлюзов ворвались: великая эмигрантская поэзия,[53] история революций и упадков, подлинная история деяний польского народа, а не его правительств, вечно новая, залитая кровью история, полная жизнеописаний, достойных пера Плутарха или Карлейля… Самобытная, оригинальная культура втянула их в свои глубины.
Это было неизбежно. Полицейский запрет, трактующий гений Мицкевича как несуществовавший, усиленно пытавшийся уничтожить самую память о жизни и подвигах Костюшко, лишь увеличил любопытство, энергию исследования и силу любви. «Запрещенные» вещи читались с удвоенным прилежанием, их изучали страстно и с энтузиазмом, чего, быть может, и не было бы, если бы эти сочинения были легальны, как сочинения Пушкина и Гоголя. В шкафчике, выставленном семьей Плоневичей в комнату Радека, стояли потрепанные, отданные на съедение крысам сочинения Мицкевича и Словацкого, «История ноябрьского восстания» М. Мохнацкого,[54] множество мемуаров о 1831 и 1863 годах, политические брошюры, издания писателей Зыгмунтовского периода,[55] переводы «Божественной комедии», драм Шекспира, романов Виктора Гюго, Бальзака и т. д., наконец довольно много и произведений «местной» литературы.
Сперва Радек за время своего трехлетнего одиночества проглотил все это сам, а когда познакомился с Зыгером и восьмиклассниками, стал носить том за томом на собрания. Каждая принесенная им книга была новостью, на которую набрасывались с таким же жадным любопытством, с каким бросаются в наше время на свежие газетные сообщения о последних событиях в политическом мире. Итак, что же говорит Данте в этом своем «Аду»? Что изображает Шекспир в «Короле Лире»? Что за штука такая «Фауст»? В разговорах сопоставляли прочитанные книги и производили сравнения произведений, иной раз довольно забавно. Зачастую непосредственно от «Освобожденного Иерусалима» переходили к Евгению Сю или какой-нибудь великобританской писательнице, фамилии которой переводчик даже не приводил в заголовке, как бы для того, чтобы спасти почтенную леди от компрометации перед публикой «Привислинского края», и затем с пламенным увлечением обсуждали выведенные персонажи, характеры и ситуации. С созданиями человеческой мысли шайка этих молокососов обращалась бесцеремонно и требовательно, разбирала их иной раз без тонкости, но зато почти всегда с таким восторженным увлечением, какое никогда в жизни уже не повторяется.
Когда Борович прочитал «Дзяды», он не в состоянии был ни с кем разговаривать. Он убежал в ближайший лес и долго блуждал там, снедаемый неописуемым волнением. К его восхищению примешивалось что-то мучительное, словно воспоминание, смутное, туманное и все же живое, словно непрестанно звучащий в ушах плач, неведомо чей, неведомо когда услышанный, а может, и никогда не слышанный, а вместе с новой жизнью зревший во чреве матери, когда она, беременная, хлопотала об освобождении мужа из крепости и молча плакала над поражением, над муками, над горестной участью и скорбью гибнущего восстания… Поэзия и литература эпохи Мицкевича сыграла в жизни Боровича огромную роль, изменила все его представления. Он был среди творений гения, он шел среди них, как сквозь строй, как между рядами лиц, взирающих на него с презрением. Душа его под влиянием этих книг боролась с собственными заблуждениями, совершенствовалась и закалялась, принимая постоянную форму, как раскаленное добела железо, опущенное в холодную воду.
Не менее важные превращения переживали в это время и товарищи Марцина. Валецкий, взбунтовавшись против матери, влюбился в Бокля, которого объяснял ему Борович, и участвовал в натуралистических исследованиях, которые велись теперь гораздо последовательней, так как «Спиноза», «Бальфегор» и другие, в то время уже студенты медицинского факультета, присылали литографированные курсы и соответственные учебники. Зыгер руководил постоянными «официальными» собраниями, которые происходили по воскресеньям. К каждому заседанию кто-нибудь из участников обязывался подготовить небольшое сообщение о книгах, которые попадались ему в руки за последнее время. На неофициальных сходках у Манека не только читали и рассуждали о литературных вопросах, но также учили уроки, заданные по предметам гимназического курса. Измученные репетированием учеников, которое, например у Радека, Гонталы и Валецкого, поглощало по пять, шесть и семь часов в день, они прибегали сюда, чтобы быстро вызубрить уроки. Здесь совместно решались задачи по тригонометрии, алгебре, геометрии, что очень облегчало утомленному уму возню с бесплодными, ничего не дающими «подстановками» и подсчетами, здесь сообща учились читать стихи Горация, переводить и разбирать их, объяснять Демосфена, гадали, каким образом надлежит скандировать хоры в «Антигоне» и т. д.
На воскресные собрания приходили также и вольнолентяи, хотя сочинения на польском языке вызывали в них нисколько не меньшее отвращение, чем прежние русские «упражнения». Как то, так и другое было занятием сверхпрограммным, а стало быть – излишним. Нельзя, однако, сказать, чтобы вольнолентяи не подчинялись кое-какому влиянию реформированных «литераторов», все время идущих впереди. Нет, старая гвардия тащилась по стопам Зыгера, Валецкого, Боровича, Гонталы, – только, чтобы не тратить слишком уж много драгоценного времени, тайком резалась в карты. От этой компании поступали даже формальные петиции о том, чтобы согласно принципу «соединяй приятное с полезным», узаконить на воскресных собраниях маленький преферанс, но помешанные, как их называли, «литераторы» категорически воспротивились, и никогда чердачок не запятнал себя картежной игрой.
Лишь один-единственный раз там позволили себе «выпивку». В конце третьего квартала, в начале апреля, один из товарищей по классу, сын купца, владельца самого большого и самого старого в городе винного погреба, уведомил Гонталу, что вечером принесет выманенную у матери бутылку старого крепкого вина из особого, семейного подвала. Манек разослал гонцов, назначив начало собрания на девять часов. Борович в этот день допоздна задержался со своими учениками и собрался «на чердачок» лишь около десяти. Ввиду того что ворота Старой Пивоварни были в это время наглухо заперты, он пошел «вечерней дорогой» и, миновав еврейские хибарки, уже хотел проскользнуть в переулок, как вдруг в круге света, падавшем от единственного в этих палестинах фонаря, увидел высокую фигуру в цилиндре и длинном пальто с бобровым воротником.
– Маевский, – прошептал Борович, пытаясь привести в порядок смятенные мысли и немедленно найти средство спасения для себя и товарищей. Не успев еще что-нибудь предпринять, он инстинктивным движением укрылся между бревнами, которые огромными штабелями были сложены на пустыре, у самого поворота на грязную топкую уличку, присел на корточки, сжался в комок и не спускал глаз с движущегося во мраке темного силуэта.
Маевский приблизился к переулку, некоторое время постоял там, видимо пытаясь ориентироваться, затем пустился вниз к речке. Калоши его хлюпали по липким, вязким, только что оттаявшим кочкам никогда не просыхающего болота; трость, которой он нащупывал в потемках дорогу, постукивала о разбросанные тут и там камни. Когда он уже был на берегу канала, Борович вышел из своего убежища и стал следить за его передвижениями с расстояния тридцати – сорока шагов. Маевский остановился у мостков и, вероятно, смотрел на оконце Гонталы, светившееся в вышине, так как его цилиндр, заметный в бледной полосе света, был сильно откинут назад. Борович тоже задрал голову и с беспокойством смотрел, не видит ли отсюда шпион головы собравшихся товарищей. Однако ни лиц, ни даже силуэтов видно не было. Лишь изредка на окно ложилась чья-нибудь увеличенная тень. Вдруг сверкнул огонек: это господин Маевский зажег спичку и, держа ее в руках, переходил по бревну через канал. Вскоре огонек погас, и Борович потерял из виду фигуру блюстителя гимназической нравственности. Он был уверен, что Маевский прекрасно осведомлен о «дыре Эфиальтеса», что он уже отодвинул доску и находится в саду.