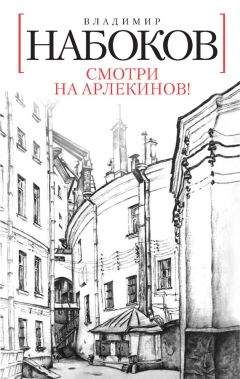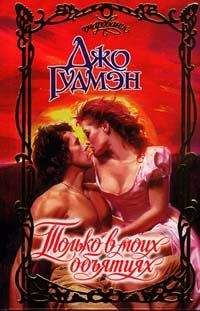Сергей Ильин - Смотри на арлекинов!
Я говорю “ты” ретросознательно, ведь по логике жизни ты не была еще “ты”, мы и знакомы-то толком не были, и по-настоящему ты стала “ты” лишь когда, поймав желтоватый листок, норовивший воспользоваться порывом ветра и с напускным безразличием улизнуть, сказала:
“Как бы не так”.
Сидя на корточках и улыбаясь, ты помогла мне затиснуть все обратно в папку, и после спросила – как моя дочь? – лет пятнадцать назад вы были с ней одноклассницами, а жена моя несколько раз подвозила тебя до дому. И тут я вспомнил, как тебя звали, и в небесном проблеске фотовспышки увидел Бел и тебя, похожих, в синих пальто и белых шляпках, на близнецов и в безмолвной взаимной ненависти ожидающих, когда Луиза куда-то вас отвезет. 1 января 1970 года Бел и тебе исполнялось двадцать восемь лет.
Желтая бабочка ненадолго приникла к головке клевера и унеслась вместе с ветром.
— Метаморфоза, – сказала ты на твоем прелестном, изысканном русском.
Не хотел бы я получить несколько снимков (дополнительных снимков) Бел? Бел, кормящей бурундучка? Бел на школьном балу? (О, этот танец я помню, она избрала партнером печального, толстого мальчика-венгра, чей отец был помощником управляющего в “Куильтон-отеле”, – я и сейчас еще слышу, как всхрапнула Луиза!)
На другое утро мы встретились в моей кабинке в книгохранилище университетской библиотеки, а уж после я виделся с тобой каждый день. Я не хочу уверять (уверенья не годны для СНА), что лепестки и оперения моих прежних любовей тускнели или грубели в прямом сравнении с чистотой твоего существа, с твоим волшебством, гордостью, с реальностью света, который исходил от тебя. Здесь главное слово – “реальность” – и постепенное постижение этой реальности для меня оказалось почти роковым.
Я лишь исковеркал бы реальность, возьмись я рассказывать здесь, что знаешь ты, что знаю я, чего никто больше не знает, о чем никогда, никогда не пронюхает фактолюбивый, грязнопытливый, грязнопотливый биографоман. Нуте-с, как протекает ваша интрижка, мистер Блонг? Заткнись, Хам Годман! А когда вы порешили вместе смыться в Европу? Будь проклят, Хам!
“См. также 'Реальность'“, мой первый английский роман, тридцать пять лет назад!
Впрочем, один предметик недочеловеческого интереса я могу осветить в этой беседе с потомками. Глупый, неловкий пустяк, я никогда тебе о нем не рассказывал, ну так вот он. Дело было перед самым нашим отъездом, марта, примерно, 15-го 1970 года, в нью-йоркском отеле. Ты ушла за покупками. (“Помнится, – ответила ты сейчас, когда я попробовал уточнить эту подробность, не говоря тебе, зачем она мне. – Помнится, я купила замечательный голубой чемодан с молнией, – изображая ее легким движением милой, нежной руки, – но он нам не пригодился.”) Встав перед зеркалом шкапа в спальне на северной оконечности нашего симпатичного “люкса”, я попытался принять окончательное решение. Ладно, я не могу жить без тебя, но достоин ли я тебя, – то есть телом и духом? Я старше на сорок три года. “Гримаса старости” – две глубоких канавки, образующих заглавную лямбду, спадают между бровей. Лоб, с тремя продольными складками, ни в каких чрезмерных поползновениях за последние тридцать лет не замеченными, оставался округлым, просторным и гладким, ожидающим, когда летний загар залессирует, я был в этом уверен, старческую корицу на висках. В общем, такое чело приятно сбирать в складки и, лаская, разглаживать. Основательная стрижка покончила с львиными локонами; то, что осталось, имело неопределенный, седовато-бурый оттенок. Большие, красивые очки увеличивали старческую россыпь похожих на бородавки наростиков под нижними веками. Глаза, когда-то неотразимые, иззелена-карие, стали теперь буро-зелеными. Нос, унаследовавший от череды русских бояр, немецких баронов и, быть может (если граф Старов, щеголявший толикой английской крови, действительно был мне отцом), по меньшей мере от одного пэра Англии, сохранил костистую горбинку и заиндевелый кончик, но мясистый выступ его обзавелся, на памяти обладателя, досадными седыми волосинками, отраставшими все быстрее после каждой прополки. Зубные протезы, нечестные по отношению к моим прежним, привлекательно неровным зубам, “казалось, не замечали моей улыбки” (так я сказал дорогому, но недалекому дантисту, не понявшему, о чем я толкую). От крыльев носа шло уклоном по борозде, а подчелюстные мешочки, отвисавшие по сторонам подбородка, образовывали при повороте в три четверти банальный выгиб, общий у стариков всех рас, классов, профессий. Я сомневался, не зря ли я сбрил роскошную бороду и нарядные усы, которые на пробу сохранял с неделю, примерно, после возвращения из Ленинграда. При всем том я счел лицо выдержавшим экзамен – на три с минусом.
Так как чрезмерной атлетичностью я отроду не отличался, износ моего тела не был ни особенно заметен, ни особенно интересен. Телу я поставил три с плюсом, в основном за успешное отражение приступов брюшного жирка в войне с тучностью, ведомой с середины пятидесятых с перерывами для отхода и отдыха. Если забыть о начальной стадии слабоумия (проблеме, с которой я предпочитал разбираться отдельно), здоровье мое с ранней юности оставалось отменным.
Ну, а что же мое искусство? Здесь что я могу тебе предложить? Ты изучала, и я надеялся, еще помнила об этом, Тургенева в Оксфорде и Бергсона в Женеве, но благодаря семейной привязанности к старому доброму Квирну и к русскому Нью-Йорку (где последний из эмигрантских журналов еще продолжал с идиотскими выпадами печалиться о моем “отступничестве”), ты, как я обнаружил, шла почти по пятам процессии моих русских и английских арлекинов, преследуемых парой тигров с алыми языками и девочкой-стрекозой верхом на слоне. Ты изучила и те устарелые фотокопии, – доказав, что в конце-то концов мой метод avait du bon[125], при всех чудовищных обвинениях, предъявляемых ему сворой профессоров из завидущих университетов.
Вглядываясь, совершенно голый, исполосованный опаловыми лучами, в другое, куда более глубокое зеркало, я видел череду моих русских книг и испытывал от увиденного удовлетворение, даже трепет: “Тамара”, мой первый роман (1925), – девушка на заре посреди мглистого сада. Преданный гроссмейстер в “Пешка берет королеву”. “Полнолуние” – лунный разлив стихов. “Камера люцида” – насмешливый глаз соглядатая за смиренной шторой. “Красный цилиндр” отрубленной головы в стране тотального неправосудия. И лучший в череде: молодой поэт, пишущий прозу в “Подарке Отчизне”.
Эта стопа моих русских книг была завершена и подписана, и задвинута назад, в разум, их породивший. Все они постепенно перевелись на английский язык либо мною, либо под моим присмотром, либо с моими поправками. Окончательные английские версии, равно как и переиздания подлинников, будут отныне посвящаться тебе. Хорошо. Это улажено. Следующая картинка:
Английские подлинники с неистовым “See under Real” (1940) во главе, ведомые сквозь изменчивый свет “Esmeralda and Her Parandrus” к веселью “Dr. Olga Reрnin” и грезе “A Kingdom by the Sea”. Тут же и сборник рассказов “Exile from Mayda”, изгнанье с далекого острова, и “Ardis”, над которым я снова начал работать в пору нашего знакомства и лавины почтовых открыток (открыток!) от Луизы, наконец-то намекавших на шаг, который я хотел, чтобы она сделала первой.
Если я и ценю эту стопку ниже, чем первую, то не из одной только скромности, которую иные назвали бы робкой, иные похвальной, а сам я – трагической, но также и потому, что контуры моей американской продукции представляются мне размытыми, ибо меня не покидает надежда на новую книгу – не ту, которую пишу в настоящем, как, скажем, “Ардис”, – но книгу мною еще не испытанную, волшебную, небывалую, которая утолит наконец вожделение и томящую жажду, все, чего не смогли утолить разрозненные абзацы “Эсмеральды” и “Королевства”. Я знал, что могу положиться на твое терпение.
2
У меня не было ни малейшего желания поквитаться с Луизой за то, что она меня волей неволей бросила, и я колебался, стоит ли ставить ее в неловкое положение, передавая моему адвокату список ее измен. Измены эти отличались глупостью и убожеством и восходили к тем дням, когда еще я оставался ей верен – в разумных пределах. “Диалог о разводе”, как ужасно именовал его Горацио Пеппермилл-младший, затянулся на всю весну: часть ее мы с тобой провели в Лондоне, а остаток – в Таормине, и я все откладывал разговор о нашей женитьбе (проволочки, к которым ты относилась с царственным безразличием). По-настоящему меня беспокоила лишь отсрочка тягостного признания (предстояло повторить его в четвертый раз за всю мою жизнь), которым следовало предварить любой разговор на эту тему. Я просто кипел от гнева. Стыд и позор – оставлять тебя в неведении относительно моего помешательства.
Совпадение, уже упомянутый прежде ангел с глазчатыми крылами, избавило меня от унизительного пустозвонства, предаваться которому я почитал обязательным перед тем, как сделать предложение каждой из моих прежних жен. 15 июня в Гандоре, Тессин, я получил письмо от молодого Горацио, а в нем – превосходную новость: Луиза узнала (как, не важно), что в различные периоды нашего супружества за нею, слонявшейся по всякого рода чарующим старинным городам, приглядывал приставленный мною частный сыщик (Дик Кокбурн, испытанный старый друг); что в руках моего поверенного находятся магнитофонные записи ее телефонных разговоров с любовниками и иные документы; и что она готова пойти на любые уступки лишь бы ускорить дело, так как торопится вновь выскочить замуж – на сей раз за графского сына. И в этот же судьбоносный день, в четверть шестого пополудни, я завершил перенос на 733-ю среднего размера карточку бристольского картона (примерно по 100 слов каждая) – тонким пером и мельчайшим из моих чистовых почерков, – “Aрдиса”, стилизованных воспоминаний об отрочестве, проведенном под древесными сводами, и о пылкой юности великого мыслителя, который к концу книги берется за разрешение самой свербящей из ноуменальных загадок. Одна из первых глав содержит отчет (передаваемый с явственно личной, нестерпимо мучительной интонацией) о собственных моих бореньях с Призраком Пространства и с мифом о “странах света”.