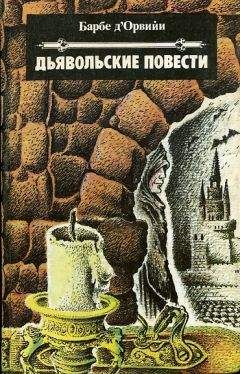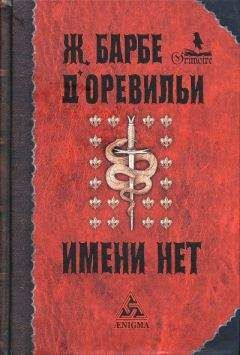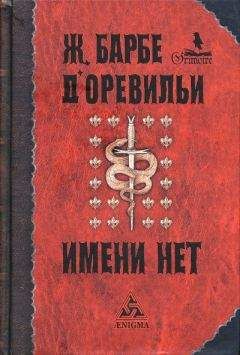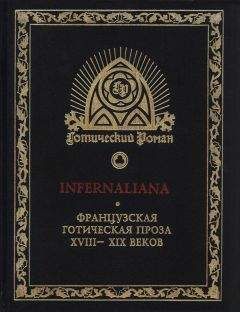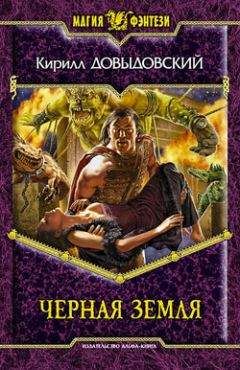Жюль-Амеде Барбе д'Оревильи - Порченая
Тронула ли аббата смерть Жанны?
— Вы ему сказали, что Жанна Мадлена преставилась, а он что? Какое у него было лицо? — спросила Нонон у тетушки Маэ, когда они повстречались у колодца Колибе.
— Какое? Да такое, как всегда, — ответила тетушка Маэ. — Дело было утром, он сидел по своему обыкновению в большом кресле у очага, а я, присев на корточки, раздувала огонь. Голос его я слышала, а голову не поднимала, на него не смотрела, потому как только собаке легко смотреть на епископа. Сами знаете, на господина аббата смотреть нелегко. Он спросил, что случилось с Клотт, а я и расскажи, как калека набралась дерзости прийти на похороны хозяйки Ле Ардуэй, как во время прощания с покойной в старуху стали швырять камнями… Знал он о смерти хозяйки Ле Ардуэй или впервые от меня услышал, не знаю, но я думала, он хоть доброе слово скажет, как-никак знал ее лучше многих, — а он ни гугу, ни звука. Тишина в комнате мертвая, только дрова потрескивают. Я не зря дула, огонь хорошо разгорелся, вот дрова и трещали. Постояла я столбом, набралась храбрости и повернула голову. Но тут же, голубушка Нонон, и отвернулась! Глаза у аббата горели, будто у дикой кошки. Ему бы взглядом поленья разжигать, а не мне на них дуть! Потом я еще маленько прибралась в комнате, а он сидел и не шевелился. Так я его и оставила смотреть в огонь.
— И все? — печально и горестно спросила Нонон.
— Все, — подтвердила старая Симона и начала разматывать цепь, опуская в колодец ведро, цепь заскользила в прохладную гулкую глубь, и ведро застукалось о позеленевшие стенки.
— Что ж, выходит, в нем нет ничего человеческого? — задумчиво проговорила Нонон, протягивая красивую, обтянутую узким рукавом руку к глиняному кувшину на краю колодца.
И, неся кувшин с водой к дому, подумала, что из всех, кто любил Жанну Мадлену де Горижар, она одна не причинила ей зла.
И, может быть, не ошиблась. Уж как любила Жанну Мадлену Клотт, но сколько беды принесла ее любовь молодой женщине! Восторженным почитанием древнего рода де Горижаров Клотт растравляла в Жанне Мадлене бесплодные сожаления, раздувала огонь гордыни. Ни для кого не секрет власть привычки над нашим сердцем, восхищение Жанны аристократами питалось долгими беседами с Клотт, подготовив горестную любовь, которая оборвала ее жизнь.
Что же до аббата — человека, похожего на крепость без единой бойницы, — который никому не позволял заглядывать в свои мысли и догадываться о своих чувствах, то я позволю себе смелость предположить, что он по-своему нуждался в Жанне де Горижар, как нуждается господин в преданном слуге. Правда, умерла она, когда ее благородная преданность стала ненужной, ибо никакими усилиями и хитроумными интригами бывший монах не сумел нарушить установившееся всеобщее перемирие. А поскольку жизнь аббата текла по-прежнему и привычки не переменились, то трудно судить, что он на самом деле чувствовал. Аббат де ла Круа-Жюган остался ровно таким, каким его знали, сидел затворником в своем сером каменном доме и никого к себе не приглашал. Дом он покидал не часто и ездил только в замок Монсюрван, известный тем, что в его башнях, по образному выражению «синих мундиров», свила гнездо не одна роялистская «сова». Однако никогда не гостил в замке всю неделю. Наложенная на аббата епитимья требовала, чтобы он непременно присутствовал на воскресной мессе в церкви Белой Пустыни. Местные обыватели постоянно ждали, что он не вернется из Монсюрвана, задержанный таинственными шуанскими кознями. В том, что аббат продолжает плести заговоры, никто не сомневался. Однако в воскресенье на клиросе вновь стояла горделивая фигура в сутане с капюшоном, и шпоры приподнимали край сутаны, сообщая, что их хозяин только что спешился с лошади. Крестьяне кивали друг другу на неподобающие для пастыря шпоры, а те позванивали в такт скорых и твердых шагов. Дома аббат Иоэль, сумрачный празднолюбец, непонятый окружающими, дни напролет шагал из угла в угол, низко опустив голову и скрестив на груди руки. В окно было видно, как он шагает, но зрители, наблюдавшие издалека за черной маячившей фигурой, уставали скорее, чем аббат. Зато на закате аббат садился на лошадь и отправлялся на ту самую пустошь Лессе, одно упоминание о которой пугало людей на десять лье вокруг…
Мог ли подобный человек не возбуждать любопытства? Все белопустынцы задавали себе вопрос, зачем аббат ездит в ночной час в столь опасные и глухие места и почему возвращается так поздно, что и не знаешь, вернулся он или не вернулся. В деревне частенько полз от двери к двери шепоток: «Вы слышали ночью жеребчика аббата де ла Круа-Жюгана?»
Горячие головы, считавшие, что бывшему монаху никогда не избавиться от шуанства, пробовали следить за ним и тоже отправлялись на глухую пустошь во время его ночных прогулок, желая удостовериться, что она не служит больше прибежищем для военных советов, которые когда-то собирались на ней и в лунные, и в безлунные ночи. Однако черный жеребец аббата мчался так, будто по жилам у него тек огонь, и мгновенно исчезал из виду. Так что и эта загадка осталась неразрешенной, точно так же, как неразрешенной осталась и смерть аббата де ла Круа-Жюгана.
— В одну из таких ночей, — рассказывал мне дядюшка Тэнбуи со слов пастухов, которые толковали о случившемся после развязки нашей истории, — когда аббат де ла Круа-Жюган носился по своему обыкновению по пустоши, пастухи таинственного племени перекати-поле, которых все считали слугами дьявола, сидели кружком на камнях, которые сами же и притащили к подножию холма, известного под названием Ведьмина горка. Когда у пастухов не было стада, а значит, и крова, который они делили с баранами, они ночевали под открытым небом на пустоши — в дождь и холод сооружали что-то вроде шатра, набросив на воткнутый в землю посох грубый шерстяной плащ и полотняную сумку. Сидели пастухи и грелись возле костра из яблочных жмыхов, которые набрали возле давильни, и ворованного в деревне торфа, пламени такой костер не дает, зато дымящие угли тлеют долго-предолго.
Луна только-только народилась и очень рано улеглась спать.
— Тусклой больше нет, — отметил один из пастухов. — Должно быть, аббат на пустоши. Он ее напугал.
— Так и есть, — подтвердил другой, приложив к земле ухо. — Я слышу на юге топот его жеребца, но скачет он далеко. — Послушал еще. — Надо же! Я слышу другие шаги, поближе и пешие… Нашелся еще отчаянный, гуляет по пустоши в ночной час вместе с нами и бешеным аббатом де ла Круа-Жюганом.
Только он замолчал, две собаки, что спали возле костра, положив на лапы морду, глухо заворчали.
— Успокойся, Черныш, — сказал пастух, который говорил первым и оказался Поводырем из Старой усадьбы. — Сегодня тебе не надо стеречь овец, верный пес! Спи.
Вокруг было черно, словно в пасти того самого пса, которого он назвал Чернышом и у которого черным было и нёбо, свидетельствуя об особой свирепости этой породы, однако, несмотря на тьму, пастухи различили тень, что смутно обозначилась рядом с ними. Сумрак лишал зрения, зато словно бы усиливал звуки, позволяя различать малейшие оттенки.
— Неужто аббат де ла Круа-Жюган все еще на этом свете? — раздался голос позади Поводыря. — Скажите, пастухи дьявола, вы знаете все на свете, и я дорого заплачу вам за добрую весть, может, он скоро распростится с белым светом?
— A-а, так вы вернулись, хозяин Ле Ардуэй, — сказал Поводырь, даже не обернувшись в сторону говорившего, продолжая греть над огнем руки. — Вот уже год и месяц пустует Кло. Как вы, однако, припозднились. Мягкими стали кости вашей жены, дожидаясь вас.
Неужели в ночной темноте стоял Ле Ардуэй? Можно было усомниться в этом хотя бы потому, что ответа на дерзость не последовало, а Фома, как известно, был человеком обидчивым и бранчливым.
— Неужто и вы помягчели, сударь? — с издевкой продолжал Поводырь, метя насмешкой в самое сердце молчаливо стоящего человека, — так Уголино в аду вонзал зубы в череп врага Руджери[34].
Если в потемках в самом деле стоял Ле Ардуэй — а у него, по словам дядюшки Тэнбуи, хватило бы и телесной силы, и душевной, услышав оскорбление, тут же отплатить за него, то, значит, он очень изменился, не вспыхнув мгновенно гневом в ответ на издевку жалкого пастуха.
— Замолчи, проклятый, — устало проговорил Ле Ардуэй (а это был он), и в голосе его слышался не гнев, а тоска и горечь. — Мертвые мертвы… А живые? Они говорят, ходят, верят, что живы, но черви грызут и их. Я пришел сюда не за тем, чтобы говорить о той, которой больше нет.
— А зачем вы тогда пришли? — осведомился пастух с равнодушной усмешкой, походя на статую Могущества, — восседал все так же неподвижно на камне и грел над углями руки.
И опять Фома ответил не сразу, а когда заговорил, то прежней решимости в его голосе не было.
— Я пришел продать душу твоему хозяину дьяволу, пастух! То, чего не могли добиться священники, добился ты: я поверил и в нечистую силу, и в колдовство. Теперь-то я понял, что нельзя было презирать, считая сбродом, прислужников Сатаны, и насмешливо пожимать плечами, когда вас называли колдунами. Вы заставили меня поверить во все сказки и небылицы, которые рассказывают про ваше племя. Да, у вас есть власть, есть могущество. Я испытал его на себе… И пришел отдать свою жизнь и душу Сатане, вашему господину, если вы наведете порчу на проклятого аббата де ла Круа-Жюгана.