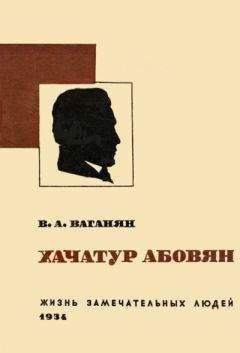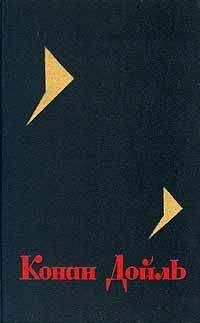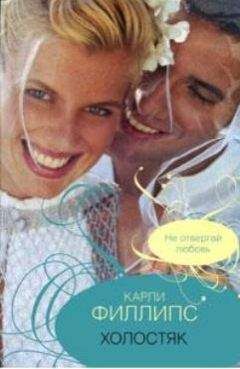Хачатур Абовян - Раны Армении
— Ну вас к шуту! Что вы несете? Гасан-хан, Гасан-хан: не десять же их, Гасан-ханов, на свете? Вот он — под ногами моими издыхает. Сон вам, что ли, приснился? Или пьяны? Гасан-хан, Гасан-хан, — да вот он, как есть цыпленок, в моих руках, — бабушкины сказки вы мне, что ли, рассказываете? Срам вашим папахам — глядите сюда!
Кто бы в самом деле мог поверить: такая громадина, и вдруг в ногах у ягненка! Как завидели его страшную образину, глаза у них налились кровью, — все так и схватились за шашки, хотели его искромсать, но наш богатырь-крестопоклонник опять заладил свое:
— Кто меня любит, вложите шашки в ножны. Не велика храбрость — в поле козленка зарезать. Давайте сначала приведем его к истинной вере, а там каждый делай, что хочешь.
— Да хлопни ты его, размозжи ему голову, — погуби бог его душу! Каждое дыхание его — яд. Чем скорей змею раздавишь, тем лучше. Ему ли еще жить? Нет, день его должен погаснуть, камень — ему на голову обрушиться. Да обрушь камень ему на голову, мы за кровь его в ответе. Он нашего народа губитель — можно ли жизнь его хоть на минуту продлить? Неужто дать ему дышать? Убей его — говорим мы тебе — не то мы и тебя зараз убьем…
— Меня убейте, а его не трогайте. Пусть хоть несколько человек увидят воочию его смерть и вздохнут облегченно.
Они еще говорили, как вдруг показалась целая вереница всадников. Агаси, видя, что его товарищи в тот же миг набросились на проклятого нехристя и сейчас сотрут его в порошок, отогнал их: он был еще неопытен, да и ничьей крови ни разу понапрасну не проливал. Он втащил хана на верхушку скалы, положил его, как барана, связанного по рукам и ногам, перед собой и во весь рост встал над ним. Товарищам приказал загнать коней в ущелье и стать у выхода с ружьями наготове, а сам, отойдя на три гяза от своего пленника, прислонился грудью к скале и так застыл, пока всадники не приблизились на ружейный выстрел.
— Головы ваши у меня под ногой, — эй, нехристи! Ваш лоб ждет моей пули. Двадцать таких же молодцов, как я, стоят позади меня. Доколе каждый из нас не убьет из вас двадцати, пока есть у нас порох, будь вы хоть само пламя, не сможете к нам подойти. Пять часов уже, как ваша душа и голова в моих руках. Тот самый Гасан-хан, сотрясавший горы, — у ног моих, вот он лежит. Поглядите на него и заплачьте о своей горькой участи.
Хан, отдай приказ освободить Хлкараклис, — тогда и жизнь твоя свободна, — а не то зарежу тебя, как последнюю курицу, — сила руки моей тебе теперь хорошо известна. Пошли человека с приказом, чтобы войско твое шло обратно, а не то, берегись, сброшу тебя со скалы, на тысячу кусков разлетишься. Как-никак, а росли мы, хан, на одной земле. Коли хочешь воевать, воюй с врагами. А бедный народ армянский, что он тебе сделал? Покажи такую доблесть, — и я назову тебя ханом. Если есть в тебе величие души, — так выкажи его!
Жизнь всякому дорога. Гасан-хан только о том и молился, чтобы как-нибудь ускользнуть. А что там перебьют какую-нибудь тысячу тюрков да персов, важное ли дело? Он думал лишь о себе и тотчас приказал, чтобы несколько всадников поскакали и отвели войска, пока он не приедет сам.
Но когда те были еще на полпути, Агаси лишился чувств. Молодой храбрец не знал, что на рану необходимо еще наложить и пластырь. Раненое место было слабо перевязано, кровь под рукавом просочилась и запеклась на теле. Изнурило его и палящее солнце и голод; как раз и кровью истек он в то самое время, когда войско неприятельское отошло и он стал опять убеждать Гасан-хана в истинной вере.
Мало-помалу в глазах у него помутнело, голова закружилась. Он хотел было поднять голову, встать с места, сказать товарищам, что с ним приключилось, но вдруг совсем ослабел, упал навзничь, закрыл глаза и ничего уже вымолвить не мог — только тихонько ахнул.
Горы и ущелья заголосили, скалы содрогнулись, едва прозвучало имя Агаси: оторопелые товарищи, проклиная сами себя, устремились к нему и подняли крик. Этот крик донесся до вражеских всадников.
Едва услыхали они плач и вопль, для них будто вновь взошло солнце. Мгновенно окрылившись, они возвратились. Что можно было тут разобрать?
Когда враг подъехал на ружейный выстрел, с сотни мест выпалили ружья. Агаси слегка приоткрыл глаза, вздохнул и подал знак рукою, чтобы кидались в ущелье. Товарищи поняли, взвалили себе на плечи драгоценную ношу и бросились в теснину.
Между тем, едва Гасан-хану развязали руки и ноги, кровопийца первым выхватил шашку.
Не успело еще неприятельское войско дойти до входа в ущелье, как Агаси с товарищами уже засели в крепостную башню города Ани. Город, где сотни церквей, тысячи домов, дворцов и всяческих палат высились на страх и стыд окрестных гор, где, по народному преданию, столь много было богатства и роскоши, что один простой пастух, когда жене его в день святой пасхи не нашлось в церкви места, построил по этому случаю целый огромный храм!
И из-за одного бессердечного инока[133] бог погасил последний светоч жизни армянского народа, разрушил престол царей, а самый народ обрек мечу и пожарам.
О простота суеверья! Мы отдали царей в жертву монахам, — вот и дошли до нынешней бедственной доли.
А эти, полные великолепия развалины, эти церкви стоят и теперь, чтоб вечно быть для нас местом вопля и плача. Но именно недра этих башен, молитвы святых и в небесах обретающиеся души царей наших, Гагика[134]… — сберегли Агаси.
Пока пять товарищей несли его подземной дорогой и вынесли наконец на берег реки, между тем пять других тайно зашли с одной стороны, а пять — с другой, чтобы из ущелья и с гор поднять крик и шум, еще пятеро успели из башенных отверстий прикончить более двадцати врагов.
Они отлично знали, что и теперь никто — ни тюрк, ни курд, ни армянин — не осмеливается пройти через Ани: все думают, что там полным полно злых духов, что это место раз навсегда богом проклято. Этим они и воспользовались. И раньше уже не раз приводилось им жарить там мясо курда или тюрка, они так изучили все тамошние дыры и щели, что их там и сам черт бы не сыскал.
Они знали суеверность персов, и когда из ущелий, из башни, с гор затрещали ружейные выстрелы и армяне подняли крик, и ущелья, недра пещерные, гулкие церкви и часовни повторили своим отгулом их голоса, — у Гасан-хана шея скривилась, он вообразил, что тысяча мертвецов, тысяча ангелов, тысяча чертей встали и идут на него. Он слова вымолвить не мог. Как обезумевший, дал лишь знак рукою, — сам ускакал, и отряд его за ним следом.
Проехав три-четыре версты, кое-кто из отряда приободрился: захотели узнать, что же это за дьяволы были, откуда выскочили, куда девались, следуют за ними или нет.
В это время, по милости божией, некий пастух, до того сидевший в одной из церквей, весь трясущийся, сам не свой от страха, — увидев, что все успокоилось, погнал из города своих коз с козлами, спеша поскорее пробраться в ущелье, чтобы не угодить врагам в лапы.
А те, как увидели чертово обличье — козлиные головы, — а у персов черти похожи на козлов, — подумали, что, видно, вся рать сатаны заявилась на землю, — и со всех ног бросились наутек, так, что пыль застлала им глаза. При каждом скачке коня им казалось, что вот-вот сейчас головы их отлетят.
Открыли глаза, — и разверзлась их адская утроба! Не Дай того бог и врагу нашему — оказалось, что сатанинское войско их въезжает в Хлкараклис, — он всего в трех часах пути от Ани.
Ни перед какой Каабой с такой верой не становились они на колени, как тут стали. Совершили намаз, вымыли руки, расчесали бороды — подошло как раз время обеда — и отерли шашки. Принесли благодарение Али, поклонились в сторону Каабы, и с руками чистыми, а сердцем поганым, встали — заклать жертву своему богу, устроить праздник, чтобы двери рая скорее перед ними открылись.
Вся вселенная, горизонты небесные, вершины горные, потоки водные — стали низвергаться с высоты. Густое, хмурое, чернокрылое облако, поднявшись, дошло до солнца и сначала побагровело ненадолго, подобное кровавому морю, потом, утучнившись, слившись воедино, изменило цвет — так почернело, что видевшие его в тот день из дальних мест подумали, что где-то рушится мир. День превратился в ночь. Куры и другая домашняя птица, все пернатые, все животные давно сбежали, укрылись в расщелинах скал, в чащу лесов, в глубину пещер и там сидели, трясясь, еле дыша.
Подувший ветер погнал пламя от горевших нив и сенных стогов Хлкараклиса и перекинул его на леса. Равнина, поле, пустошь, мелколесье, полынь, кусты, терн, солома, сухой лист, дерево, — как степь, охваченная пожаром в летнюю ночь, — превратили горы в звезды, ущелья в небо, какими они в ясную погоду горят над нами каждую ночь.
Буйный ветер, гоняя перед собою пламя, так хлестал и бил, так лягал копытами, что людям казалось: Шурагяльская равнина превратилась в море огня, и волны пламени сыплют на нее серу и горящие уголья.