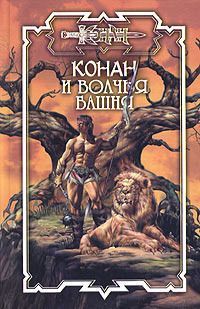Симадзаки Тосон - Нарушенный завет
— Видишь, Цутия-кун, как обстоит дело. — Младший учитель обвёл взглядом собравшихся. — Почему возникло такое предположение, это особый разговор, но, в общем, всё началось с того, что Сэгава-кун ведёт себя весьма подозрительно. Посуди сам: пошли толки, что в школе среди нас есть «синхэймин». Естественно, что всякий возмущается, не так ли? Ты первый. Уже одно то, что ходят такие толки, позорит всех нас, учителей. Стало быть, если бы У Сэгавы-куна была чистая совесть, он негодовал бы вместе с нами, не так ли? Конечно, он что-нибудь да сказал бы об этом. А мы видим, что он ничего не говорит, отмалчивается, значит, он что-то скрывает. Так считают многие. К тому же один человек говорит… — начал было он, но сразу же осёкся, — однако лучше оставим это.
— Так что же говорит один человек? Раз начал, продолжай, а то что же получается… — вмешался учитель из первого класса младшего отделения.
— Давай, давай! — с холодной усмешкой сказал Бумпэй. Он стоял за младшим учителем и слушал, покуривая папиросу.
— Нет, шутки в сторону, — вмешался Гинноскэ, и глаза его заблестели. — Я знаком с Сэгавой-куном с учительской семинарии и хорошо его знаю. Чтоб Сэгава-кун был «синхэймином» — это невозможно. Я не знаю, кто пустил такой слух, но раз об этом стали говорить, я буду на стороне Сэгавы-куна и не отступлюсь. Вы отдаёте себе отчёт, о чём идёт речь? Это не то, что выпить чашку чаю.
— Разумеется, — ответил младший учитель. — Оттого-то мы и ломаем себе голову. Вот, послушай, что говорит один человек. Когда с Сэгавой-куном заводишь разговор об «этa», он непременно переводит его на другое. Да не только переводит разговор, он сразу же меняется в лице, вот что странно. У него на лице появляется какое-то смущение, растерянность… Ведь уже одно это наводит на подозрение. Теперь так: если б он вместе с нами сказал «вот паршивый «этa»» или что-нибудь в этом роде, тогда никто бы ничего и не подумал, а то…
— Хорошо, а чем Сэгава Усимацу похож на «этa»? Ответь-ка мне на этот вопрос! — Гинноскэ пожал плечами.
— Что он в последнее время очень задумчив, это факт, — сказал учитель четвёртого класса, теребя свою реденькую бородку.
— Задумчив? — переспросил Гинноскэ. — Задумчивость у него в характере. Нельзя же из этого заключать, что он «синхэймин». Ведь есть сколько угодно мрачных людей, и они вовсе не «синхэймины».
— «Синхэйминов» отличает своеобразный запах, не так ли? Надо понюхать, тогда узнаешь, — шутя, сказал учитель из первого класса и засмеялся.
— Не говори глупостей! — улыбнулся и Гинноскэ. — Я много раз видел «синхэйминов». Они отличаются от нас прежде всего цветом кожи. «Синхэймина» можно распознать уже по одному виду. Потом, поскольку они отверженные, у них у всех надломленный характер.
Немыслимо, чтобы из среды «синхэйминов» вышел такой энергичный, смелый юноша. А разве сможет «синхэймин» пробиться к науке? Если принять во внимание всё это, то с Сэгавой-куном всё становится ясно.
— А что же, в таком случае, ты скажешь об Иноко Рэнтаро? — насмешливо спросил Бумпэй.
— Иноко Рэнтаро? Он… — Гинноскэ запнулся, — ну, он исключение.
— Скажи пожалуйста! В таком случае, и Сэгава-кун тоже может быть исключением, — захлопав в ладоши, засмеялся младший учитель. Остальные тоже не могли удержаться от смеха.
В эту минуту дверь учительской распахнулась, и вошёл Усимацу. Все разговоры сразу смолкли, и взгляды присутствующих обратились в его сторону.
— Как твоё здоровье, Сэгава-кун? — многозначительно спросил Бумпэй. Тон у него был весьма ехидный. Младший учитель переглянулся со стоявшим рядом учителем первого класса, и оба обменялись многозначительными улыбками.
— Благодарю, — спокойно сказал Усимацу. — Я уже здоров.
— Простудился? — осведомился учитель четвёртого класса.
— Да, пустяки, ничего серьёзного. — И Усимацу обратился к Бумпэю. — Вот что, Кацуно-кун, к сожалению, сегодня пришли не все ученики, не знаю, как нам быть. Боюсь, что и с проводами Цутии-куна ничего не выйдет. Правда, всё уже приготовлено, но школьники что-то не в настроении.
— Как же, такой снег, — улыбнулся Бумпэй. — Делать нечего, отложим.
В это время в учительскую вошёл служитель. Гинноскэ, внимание которого было приковано к Усимацу, не слышал, что тот сказал. Заметив это, учитель гимнастики слегка хлопнул его по плечу:
— Цутия-кун, тебя вызывает директор.
— Меня? — Гинноскэ только теперь понял, что речь идёт о нём.
Директор сидел в приёмной. Он был не один, с ним находился уездный инспектор. Когда Гинноскэ вошёл, они о чём-то тихо совещались.
— А, Цутия-кун! — Директор приподнялся и пододвинул Гинноскэ стул. — Я позвал тебя вот зачем.
В последнее время по городу ходит странный слух… вероятно, до тебя он тоже дошёл, но… разве мы можем оставаться спокойными, когда в городе идут такие толки? Если этот слух будет распространяться дальше, то кто знает, к чему это может привести. Присутствующий здесь господин инспектор тоже чрезвычайно обеспокоен и, несмотря на погоду, специально пришёл сюда. Мы знаем, что ты знаешь Сэгаву-куна ещё с учительской семинарии и что ты с ним дружишь, поэтому от тебя мы скорей всего сможем всё узнать. Так я полагаю.
— Нет, я лично об этом ничего не знаю, — ответил Гинноскэ, смеясь. — Пускай себе болтают что хотят. Если принимать во внимание всё, что говорят, тогда, пожалуй, и конца этому не будет.
— Ну нет, так рассуждать нельзя, — переглянувшись с инспектором, возразил директор и продолжал, глядя в Упор на Гинноскэ: — Ты ещё молод, ты не понимаешь, что с общественным мнением надо считаться. С общественным мнением шутить нельзя.
— Значит, из-за того, что в городе ходит сплетня, надо с нею считаться и верить тому, что высосано из пальца?
— Вот то-то и оно! Беда с вами! Разумеется, я-то не верю тому, что говорит. Однако сам посуди: дыма без огня но бывает, но так ли? Всегда есть какая-то причина для подозрений… А ты что думаешь, Цутия-кун?
— Я не могу так думать.
— Ну, тогда нам не о чем говорить. А всё же кое-что заставляет задуматься. — Директор понизил голос — Сэгава-кун в последнее время поглощён какими-то мыслями. Почему он стал мрачным? Раньше он, бывало, захаживал даже ко мне домой, а в последнее время перестал. Прежде мы нередко беседовали, смеялись, мы всегда все знали друг о друге, но теперь, когда он стал избегать людей и один предаваться каким-то размышлениям… тем, кто не знает причины такого поведения, кажется, что это неспроста, и вот его начинают подозревать в самых невероятных вещах.
— Нет, — перебил его Гинноскэ, — всё это объясняется другой серьёзной причиной.
— Другой? Какой же?
— У Сэгавы-куна такой характер: он и хотел бы высказать всё, что у него на душе, да никак не может.
— Откуда же ты можешь знать то, чего он не говорит?
— Так ведь я и без слов его понимаю. Я уже давно дружен с Сэгавой-куном и более или менее знаю всё, что с ним до сих пор случалось, поэтому теперь мне достаточно видеть, как он ведёт себя, и я уже сердцем чувствую, что у него на душе. Я знаю, отчего он задумывается, отчего стал таким мрачным.
Эти слова Гинноскэ сильно заинтересовали его слушателей. Директор и инспектор не проронили ни звука и только дымили папиросами в ожидании того, что он будет говорить дальше.
По словам Гинноскэ, мрачность Усимацу не имела никакого отношения к тем пересудам, какие велись в городе… Она была вызвана теми терзавшими его душу переживаниями, которые вполне свойственны людям его возраста. Гинноскэ догадался, что Усимацу полюбил дочь Кэйносина. Но из-за своего скрытного характера Усимацу не признался в этом ни своему другу, ни даже ей самой. Такой уж он от природы: молчит и скрывает свои чувства. Единственный выход им он находит в том, что всячески помогает её отцу и брату — Кэйносину и Сёго. То, о чём он не говорит словами, он, по крайней мере, выказывает своими действиями и в этом находит утешение. Вот какие непонятные другим страдания переполняют его душу. Впрочем, Гинноскэ сам совсем недавно догадался об этой тайне Усимацу, и то совершенно случайно.
— И вот, — продолжал Гинноскэ, приложив руку ко лбу, — когда я в этом убедился, поведение Сэгавы-куна стало мне понятно. А раньше я сам, бывало, недоумевал… Конечно, в его поведении было много несуразного.
— А вот оно что! Может быть, это так и есть, — сказал директор и переглянулся с инспектором.
Когда Гинноскэ, выйдя из приёмной, вернулся в учительскую, Усимацу и Бумпэй, в кружке учителей, собравшихся вокруг хибати, горячо о чём-то спорили. Остальные тоже были увлечены спором, хотя и молчали. Но и те, кто стоял, скрестив на груди руки, и те, кто сидел, облокотившись о стол, и те, кто расхаживал по комнате, — все внимательно ловили каждое слово. Одни бросали на Усимацу испытующие взгляды, в глазах других сквозило недоверие. По тону разговора Гинноскэ понял, что Усимацу и Бумпэй необычайно возбуждены.