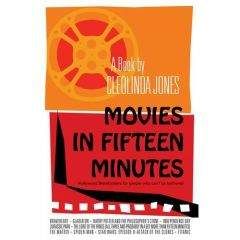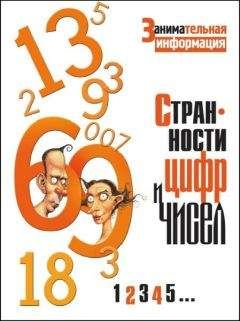Дэвид Лоуренс - Радуга в небе
Прекрасно, это неправда — вода не превращалась в вино. Не превращалась. Но все-таки в душе своей он сохранит это превращение воды в вино. Как факт, как реальность этого не было. Но для него — было.
— Превращалась или не превращалась вода в вино, меня не волнует, — сказал он. — И значит это для меня лишь то, что значит.
— А что это значит? — мгновенно, с надеждой спросила она.
— Это Библия, — ответил он.
Ответ возмутил ее и вызвал вспышку презрения. Сама она не подвергала Библию сомнению. Но он поневоле толкал ее к презрению.
И все же не Библия, не Писание были для него важнее всего. Хоть она и не была согласна с ним, но в глубине души и сама знала, что он воплощает в себе нечто истинное. Он не был догматиком. В факт превращения воды в вино он не верил. И не стремился видеть в этом реальный факт. По существу, его отношение было некритическим и совершенно личным. Из Писания он брал лишь то, что являлось ценностью для него, что он мог освоить и присвоить, обогатив и напитав этим душу. Разум его при этом спал.
Она же горько сокрушалась, что он дал уснуть разуму. Тем, что было в нем человеческого, — общечеловеческим своим достоянием — он не воспользовался. И интересовало его только свое, личное. Это и не по-христиански. Потому что важнее всего в учении Христа провозглашенное им братское единение.
Почти против воли она цеплялась за укоренившееся в ней почтение к знанию. Человек смертен, но человеческое знание бессмертно и безгранично. Так она считала и в это верила — верила смутно, не умея сформулировать мысль. Она верила в могущество разума.
Он же, напротив, слепо, как обитающий в подземелье, игнорируя разум, слушался лишь своих темных страстей и стремлений, веря лишь чутью. Рядом с ним она боялась задохнуться. И боролась за жизненное пространство, нанося удары.
Тогда, зная о своей слепоте, он бешено оборонялся, нанося ответные удары, обуреваемый инстинктивным страхом. Он делал глупости. Отстаивал свои права, высокомерно утверждаясь в роли хозяина.
— Ты должна исполнять мою волю! — кричал он.
— Дурак! — кричала она в ответ. — Дурак!
— Я покажу тебе, кто тут хозяин! — кричал он.
— Дурак! — отвечала она. — Дурак! Я дочь своего отца, который мог одним пальцем заткнуть за пояс дюжину таких, как ты! Так мне ли не знать, какой ты дурак!
Да он и сам знал, что говорит глупости, и знать это было ему нестерпимо больно. Он самоутверждался, воображая себя капитаном их домашнего корабля, она же тяготилась и кораблем, и его капитаном. В своих глазах он обретал значительность хозяина одной из бесчисленных домашних ячеек, судна в ряду других, вместе составляющих могучую армаду общества. А ее смешила эта армада — скопище утлых тазов, бессмысленно барахтающихся на волнах. Она в нее не верила. И только смеялась над его попытками представить себя хозяином в доме, распорядителем их совместной жизни. А он чернел как туча от стыда и гнева. И со стыдом вспоминал ее отца, умевшего выглядеть мужчиной, не рядясь в тогу высокомерия.
Он вступил на скользкий и неверный путь, но отказаться от него было очень тяжело. Столько колебаний, столько стыда. Потом он сдался. Оставил свою идею — быть хозяином в доме.
Но, тем не менее, что-то в нем желало властвовать, в той или иной форме. И то и дело после жалких приступов стыда он, вновь воспряв и окрепнув упрямой своей душой, чувствовал в себе силы начать все сначала, опять утвердиться в мужской своей гордости и желании воплотить свои тайные душевные стремления.
Начав с согласия, они вновь и вновь кончали войной, что едва не доводило их до полного безумия. Он говорил, что она его не уважает. А она лишь смеялась презрительно. Ей казалось, что довольно с него и ее любви.
— А что в тебе прикажешь мне уважать? — спрашивала она.
Он отвечал что-то невнятное, а она, сколько ни билась, не могла найти ответ.
— Почему ты забросил резьбу? — спрашивала она. — Почему не заканчиваешь Адама и Еву?
Но к Адаму и Еве она проявляла равнодушие, и он ни разу не прикоснулся к ним резцом. Она издевалась над Евой, говорила:
— Она похожа на марионетку. Почему она такая маленькая? Ты сделал Адама огромным, как сам Господь Бог, а Еву — просто куклой.
— Какая наглость, — продолжала она, — утверждать, что Женщина была создана из тела Мужчины, когда все мужчины на свете рождены женщинами. Что за наглость это со стороны мужчин, что за спесь!
Однажды, попытавшись вернуться к барельефу и будучи не в состоянии это сделать, потому что от малейшей попытки к горлу подступала тошнота, он изрубил доску и кинул ее в огонь. Она об этом не знала. Несколько дней после этого он был тих и кроток.
— Где доска с Адамом и Евой? — спросила она его.
— Сгорела.
Она взглянула на него.
— Но твой барельеф?..
— Я его сжег.
— Когда?
Она не поверила ему.
— В пятницу вечером.
— Когда я была в Марше?
— Да.
Она замолчала.
Когда он ушел на работу, она проплакала весь день и очистилась душой. Из пепла этой боли, родился новый слабый огонек любви.
Говоря без обиняков, она вдруг поняла, что забеременела. Душу ее пронзила дрожь изумления и предвосхищения. Ребенка она хотела. И не потому, что очень уж любила детей, хотя все детеныши на скотном дворе вызывали у нее умиление. Но ей хотелось стать матерью, и непонятный голод в душе заставлял мечтать о единении с мужем через ребенка.
Она хотела сына. Чувствовала, что сын станет для нее всем на свете. Хотела сообщить мужу. Но как сообщить такую животрепещущую, такую интимную новость ему, такому суровому, неотзывчивому? И в результате она ушла от него вся в слезах. Так жаль этой прекрасной неиспользованной возможности, так больно, что холод убил в зародыше один из прекраснейших моментов ее жизни. Она ходила по дому, неся в себе тяжкий груз, трепеща от сокрытой тайны, желая коснуться его, тихонько, самым легким касанием, увидеть, как темное и чуткое его лицо осветится этим известием. Она все ждала, когда он смягчится, станет с ней ласков и спокоен. Но он все время был таким резким, грубил ей.
И прекрасный цветок завял в бутоне, сердце сковал холод. Она отправилась в Марш.
— Ну, — сказал отец, взглянув на нее и с первого взгляда разгадав ее настроение, — что стряслось на этот раз?
И прозорливость его любви моментально вызвала у нее слезы.
— Ничего не стряслось, — сказала она.
— Все никак поладить не можете? — спросил он.
— Он такой упрямый, — пролепетала она, хотя и сама не была обделена упорством.
— Ну, я знаю и еще кое-кого упрямого, — заметил отец. Она молчала.
— Ты же не хочешь сделать вас обоих несчастными, — сказал отец. — Неизвестно почему.
— Он вовсе не несчастный! — возразила она.
— Бьюсь об заклад, не знаю, как другое, но это ты умеешь — делать его несчастным, как побитая собака. Ты, девочка моя, дока по этой части!
— Я ничего такого не делаю, чтобы он чувствовал себя несчастным! — упорствовала она.
— Конечно, конечно! Ты с ним просто мед и сахар! Она хихикнула.
— Только не думайте, что я нарочно делаю его несчастным! — возмутилась она. — Это не так!
— Конечно, не так. И мы этого вовсе не думаем, как не думаем, что ты нарочно делаешь его счастливым, веселыми беззаботным, как рыбка в пруду.
Слова эти заставили ее задуматься. Она была удивлена — неужели она нарочно не делает мужа веселым и счастливым, как рыбка в пруду?
Пришла мать, и они втроем сели пить чай, перебрасываясь незначащими словами.
— Помни, детка, — сказала потом мать, — ничто не дается готовеньким, не плывет само в руки. Такого не жди. Между двумя людьми — мужем и женой — должна быть любовь, и это самое главное, но это не ты и не он, а нечто третье, что вы оба должны создавать. Не стоит думать, что все должно быть по-твоему.
— Ха! Еще бы! Да если б я это думала, я давно бы уж перестала думать! Не плывет в руки! Да если б я протянула руку, мне бы ее тут же оттяпали, смею вас уверить!
— Так надо глядеть в оба, когда и куда руку протягиваешь! — сказал отец.
Анна досадовала, что трагедию ее молодой жизни родители воспринимают с таким спокойствием.
— Ты этого парня любишь, — сказал отец, огорченно поморщившись. — Только это идет в расчет.
— Да, я люблю его, и тем стыднее ему должно быть! — вскричала она. — Я собираюсь сказать ему… вот уже четыре дня собираюсь сказать… — лицо ее стало подергиваться, глаза наполнились слезами. Родители молча глядели на нее. Продолжения не последовало.
— Сказать что? — спросил отец.
— Что у нас будет ребенок! — прорыдала она. — А он не давал мне сказать! И так и не дал! Каждый раз, как я подходила к нему с этим, он так ужасно вел себя со мной! А я хотела ему сказать, а он не дал! Был таким злым!
Она зарыдала так, что, казалось, сердце ее готово разорваться. Мать подошла к ней и стала утешать — обняла, крепко прижала к себе. Отец сидел бледнее обычного. Сердце его было охвачено ненавистью к зятю.