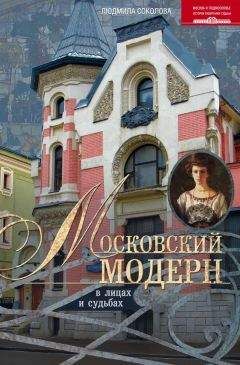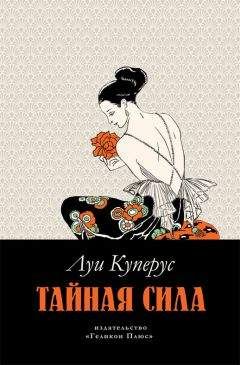Рихард Вайнер - Банщик
Самая первая «мысль» уходящих — это видение. Видение, потому-то сон — брат смерти. (Так говорит словарь нашей скорби. И наоборот: «Свобода снов равна свободе смерти».)
Вот ведь отвратительный лиризм живого писателя, заплутавшего на границе, откуда он смотрит в обе стороны и, смотря в обе стороны, увлекается вместо того, чтобы распоряжаться. Забыть об утопающем! Думать о чертежных кнопках, то есть помнить о чертежных кнопках! До сих пор распоряжаться не было моим ремеслом. Уж не помню, кто именно отказался выдать мне диплом надсмотрщика. Но хотя мои мысли и были заняты чертежными кнопками, о Наполеоне я еще не забыл. Даже перед лицом Святой инквизиции я все-таки сумею с кривой улыбкой, открывающей мои редкие зубы — зубы лжеца, и водрузив на голову шутовскую митру (это из спортивного честолюбия, чтобы меня не приняли всерьез), сказать: рай был; и первородный грех тоже; и из-за первородного греха мы были из рая изгнаны. Рай был; и раем был край «всего возможного», то есть край, где все не только возможно, но даже и не изумляет. Пожалуйста, пока еще не убегайте. Я не исключаю, что позже вы от своего согласия отречетесь. Мне было бы вас жаль; это бы доказало вашу несостоятельность. Не более. Еще по паре коктейлей, и мы пришли бы к согласию. Пара коктейлей — это немного, но я исхожу из некоего минимума в кошельке. Я, понятно, предвижу остроумные шутки, под которые себя великодушно подставил. Но мне, знающему, на что способна пара коктейлей, мало дела до шуток. Способна она на многое; она снимает с ангелов их излишнюю скромность и стыд, а со свиноторговцев — костюм от дорогого портного, в котором они притворяются джентльменами.
В любом случае я надеюсь, что желающие оценят по заслугам тот факт, что я потратил на демонстрацию своей мысли не очень много их драгоценного времени. Аподиктическая резкость — которая некоторым, возможно, покажется наглостью, ибо уж слишком резво перескочил я от утверждения к выводу, минуя доказательство, — кажется мне скорее симпатичной. Время дорого, и элементарная вежливость требует признать, что Ветхий Завет знают все.
— Итак, человек был изгнан из рая потому, что съел плод с древа Познания. Кстати: каждый из нас отлично осведомлен о том, что он получил, когда не послушался райского лесничего: то самое пресловутое похищенное познание, которым мы до сих пор иногда хвастаемся, это не Познание, но некий выбракованный товар, предназначенный цивилизованными на экспорт нецивилизованным (называют его по-всякому, но чаще — цивилизацией), а именно — способность судить. (Если среди читателей есть те, кто со мной не согласен, пусть не утомляют себя поднятием руки. Скоро вы увидите, что это излишне.)
Способность судить: это означает примитивную алгебраическую операцию, обесцененную к тому же еще и тем, что нищая, но честная цифра заменяется не менее неимущей, но надутой буквой. А плюс В равно С пыжится так, словно гораздо лучше, чем два и два, которые равны четырем. Однако Бог, похоже, обидчив. Этой убогой Адамовой кражи ему хватило, чтобы запретить рай нам всем. Не исключая даже тех, кто дует в трубы мощнее иерихонских (правда, теперь их, к сожалению, делают из железобетона); короче говоря, Адам был всего лишь старейшиной-паралитиком, позволившим себя одурачить. — Изгнаны из рая с нищенской сумой, где вместо корки хлеба — способность судить. Вот он — ценный плод с древа Познания. Мы изгнаны из рая за то, что осмелились взирать на свет сквозь алгебраическое уравнение, то есть примерно так, как если бы мы воспользовались моноклем из эбенового дерева, а другой глаз зажмурили, как это случается со всяким, кому недостало монокля: это только вопрос экипировки. Мы изгнаны из рая потому, что разделили «что на ум пошло» на «что на ум не пошло», а потому якобы вовсе не существует.
Попробуйте только разъединить зубчатые колеса возможного и невозможного, попробуйте, если, конечно, не лишитесь при этом руки! Так чем же был рай, откуда нас изгнали за то, что мы съели плод с древа Познания (qu’il dit[18]!)? Чем иным, если не краем, где суждение бесполезно? Где бесполезны суждения? Где все за пределами суждения, то есть подлинно и фатально возможно. Изгнаны из рая. То есть изгнаны оттуда, где лишь одно бы изумляло, если бы этому можно было изумляться: само изумление.
Мой Боже! — опять это слово! — так кто же и когда тебя выслушает? Еще мгновение назад мне казалось, что я готов приютить тебя. Я считал, что мне хватит сил утешить тебя в твоем горе отверженности. Но есть некто, кто сильнее нас обоих. Кто это? Как его отыскать? Было столько места, столько места, Боже мой! Кто, кто перегородил его словами и вопросами, причем именно тогда, когда ты уже готовился войти? Словами и вопросами, как стеной. Вот так-то. А ты знаешь, чего он хочет, куда тебя ведет, что велит, что затевает? И знаешь ли, точно ли знаешь, что он не окажется внутри тебя кукушкой в чужом гнезде?
Раньше было столько места! Между безмолвием, простирающимся от начала к концу (это просто выражение такое, потому что никакого конца не существовало), и моим однообразным всеведением, пренебрегающим красками и формами, мыслями и пустотой после них, согласием и отрицанием, вопросу негде было укрыться. Разве что иногда время сгущалось в пространство, подозрение, что я есть, уверенность, что я меньше того, чем буду, когда исчезну, непознаваемая моя скорбь — в некое обещание веселья еще более мрачного, и это было все, и этого хватало. Не ты был причиной этого, Боже мой, ибо ты разорен и ждешь, что я вступлюсь за тебя. Кто же из твоих союзников сделал так, что часы казались мне короче секунд, что я стремился к горечи так же жадно, как пчелы к сладкой пыльце, что большие, огромные звезды слетались в мои ладони — такие маленькие и такие умоляющие, — и места для них там было предостаточно, что мне не хотелось освобождаться от моих вялых и сковывающих чар, в которых, однако, твои пустые и бесцельные мысли занимали места не больше, чем ничтожная пылинка. Кто сделал это? Не ты, ибо ты просишь о милости, — но точно ли это был тот, кто внезапно перевернул все во мне, не оставив для тебя даже крохотного местечка? Мой Боже, кто и когда выслушает тебя? Еще минуту назад мне казалось, что я буду надежным приютом для тебя, а теперь, теперь, из-за того, что кто-то во мне спросил: А ты знаешь, чего он хочет, куда тебя ведет, что велит, что затевает? — из меня был изгнан я сам, и я не знаю, где преклонить голову. Кто это был? Я же не сделал ничего плохого.
Не знаю, зачтется ли мне это, но я все же подчеркну здесь особо, что для того или иного события совершенно безразлично, ведает ли наш разум, как с ним быть; или, как сейчас принято выражаться (не можем мы без того, чтобы не произнести последнее слово, и нас не волнует, что это последнее слово наверняка уйдет в никуда), согласится или нет наш интеллект вобрать его. Инстинкт «познания» — один из атрибутов человеческого несовершенства. Дар непосредственного отождествления себя со всем «что существует и происходит», привилегия бесконечного слияния не только лишь субъекта с объектом, но также и взаимного слияния объектов (я осознаю, насколько грубыми инструментами для выражения этих отношений являются слова «объект» и «субъект» и вообще все слова; они — мародеры мысли; а само слово «мысль» есть самое грубое из всех) предоставлена не согрешившим, определение которых непосредственно следует из определения согрешивших, — смотри выше. Вероятно, число категорий этих не согрешивших безгранично. Кто виноват, что нам было позволено распознать лишь три из них: царство минералов, растений и так называемых бессловесных тварей? Границы между данными категориями проложены так, что ничего глупее не придумаешь; но я уже говорил: мы — пленники словаря; словаря общепринятых концепций, мы осознаем его невероятную отрывочность и приблизительность, но в нищете своей солидарны, в нищете своей равны: не имея иного средства, чтобы договориться, мы договариваемся, пользуясь им… и расходимся все дальше и дальше. Трагедия человеческая в том и состоит, что эта чудовищно возрастающая отчужденность является единственной мерой, которой мы можем измерить стремление друг к другу. Есть много категорий не согрешивших, не имеющих даже представления о существовании непроницаемой стены между я и не я, — и взгляните, сколь извращен человек, который полагает эту стену чем-то естественным; ибо лишь в этом случае было бы Познание, то есть слом этой стены, благом, человек же выдает мнимое свое Познание за действительное благо, — но мы из безграничного числа этих категорий знаем лишь три. Если же нужно дать определение peche mignon[19] человека, то из всего до сих пор написанного следует, что в иерархии с учетом Познания человек стоит ниже всех: именно потому, что он судит, или, вернее, потому что не может не судить. Взглянув на суть дела под таким углом, мы поймем, что высказывания вроде: теория верна, ложна, гипотеза правдоподобна, менее правдоподобна или неправдоподобна, совершенно бессмысленны. Среди внушающих доверие лжепознаний (вербальное умение внушать доверие вообще характерно для лжепознания; и нет сомнения, что древо, плод которого съел Адам, было древом лжепознания, ибо кто и как смог бы изгнать его из рая, съешь он плод с истинного древа Познания?) нет ни одного, которое хотя бы приподняло железный занавес. Так имеет ли значение их относительная правдоподобность — на каждом шагу спотыкаешься о громоздкие валуны языка! — я о том, что их готовы воспринять умы, конформистские настолько, что они спасут тонущего в беспредельном ничуть не успешнее, чем нижняя волна помогла бы тонущему в море.