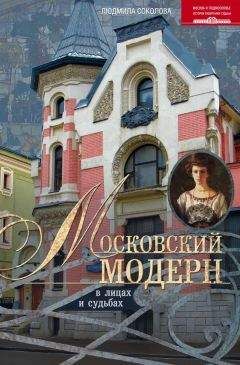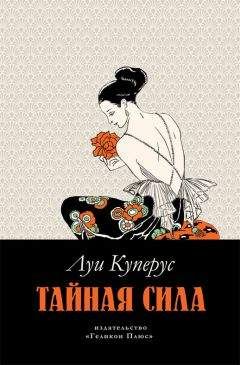Рихард Вайнер - Банщик
Разбушевались вихри; вихри разъяренные; они несутся со всех сторон ужасным галопом; столкнувшись, они выворачиваются из седел, как на турнире, и разражаются тишиной; разражаются тишиной. Над кораблем затрепетал лист. Он кружил и вращался, взлетал и падал, лист материальный, но ненадежный. Вы поняли, да? Это послание. Говорящее о спасении? О понимании? Послание ниоткуда и ни о чем, послание равнодушно каменного капризника, без угроз и без обещаний, не приказ, не запрет, оно не заводит в лабиринт, но и не служит путеводной нитью, послание столь же бесполезное, как то чудо, в котором он обитал, а потому его необходимо было прочесть. Единственное, что ему оставалось, это прочесть его. Не то чтобы ключ к ничему, но ключ к ничему из того, что можно познать. И именно поэтому он знал, знал биением своих жил, что если он его не прочтет, то собьется с пути. Не с того, что ведет во тьму, которой нет, но с пути к спасению, то есть назад. Но как завладеть вращающейся загадкой, уносимой вихрем? Вот она скользнула по палубе, вот прильнула к сломанной мачте, но, когда он кинулся за ней, оторвалась от мачты и отпрыгнула прочь, как на резинке. Ведет себя светски, то есть умно и коварно? Вовсе нет! Ибо листок уже снова далеко-далеко, пробирается сквозь кольца над голубыми вершинами гор, облетая их подобно серафиму с картин, населенных ангельскими хорами или сонмами блаженных и мучеников; и тут же возвращается обратно — такой близкий и такой дразнящий, словно он и впрямь способен на издевку.
Листок. Внезапно, однако, он будто раскрыт и разглажен невидимой рукой. Застыл и трепещет, загнанный. Вибрирует, как кастаньета, последними колебаниями, слышными уже лишь себе. Замер над его головой, словно издевательская надпись на кресте; застыл на рее; умерщвлен острыми скобами.
«Умерщвлен» — это не стилистическая мишура; ибо только теперь, распятый, он признается, что ему некого было спасать. А если и было, то уж никак не потерпевшего кораблекрушение. Нынче листок действительно стал тем, чем обещал быть, пока был доступен лишь мечте о нем; одновременно вещественным и фантастическим — то свитком, то клочком, то сгустившейся молнией, игравшей цветом и светом, — и никогда не скрывавшим, что обещает больше, чем сможет дать. Именно из-за этой циничной неспособности к притворству и был этот листок таким желанным.
Как унизителен возврат туда, где ничего не грозит. К счастью, избежать позора — это зависит только от нас, и легко убедить себя, что радостное соловьиное пение — да, оно именно радостное — является таковым из-за смутного предчувствия, что за порогом майской ночи, каждое мгновение которой обманывает вечность, эта пронзительная песня стихнет и рассыплется. Вы еще не забыли о человеке с повисшими руками под гудящей реей? Почему ему, обитающему внутри чуда, необходимо было прочесть послание? Послание — он знал это, и знание его было осязаемым и тяжелым, как сверкающий халцедон, — которое не содержит ровным счетом ничего?
Сказать нечего; ибо слова — это отмычки, каждая из которых открывает все, то есть ничего по отдельности; изображать нечего, ибо образ, пробравшийся хотя бы даже только на поверхность, — это уже сам по себе отменный взломщик; бессильны чары могущественных волшебников, когда они пытаются извлечь из вещей признание в их вещности (а после его поймать); ведь уловить его может только тот, кто сумел отречься от себя самого. (Но на что тогда ему познание?) Почему ему нужно было познать то, от чего он ничего не ждал?
Взгляните теперь на него перед распятым листком. Взгляните на сам распятый листок. Я один, один на том рубеже, где «есть» и «нет» встречаются. И я вижу еще много дальше: там, где «есть», я вижу остров, не заселенный пока ни единой мечтой, это шахта для добычи любых мечтаний, шахта для добычи радуги, которая множит сама себя, проплывая на холодном сне «вовсе нет», подобно мальстрему, со свистом низвергающемуся в пропасть и всасываемому остатком побежденного им бодрствования. Мы спускаемся в сон. На склоне ко сну никто — ни ты, ни ты, ни он — не отрицает противоречия, что уже нет того, что еще есть, и что уже есть то, чего еще нет. На склоне ко сну мы все соглашаемся — ты, ты и он, — что вещи, которые бы только могли быть, реальнее тех, которые кичатся своей реальностью, но даже то, что лишь возможно, не всегда в силах устоять перед белым сиянием абсурдного, что свет и тьма — это не просто величины, но враждебные миры различных сущностей, и все же они чудесным образом взаимозаменяемы: ты закрыл глаза; потом снова открыл. Ты не можешь быть и тем, и этим; вас двое.
И на этом склоне ко сну никого не изумляет распятый листок, который есть и которого нет. Он переменчивый и несуществующий в природе; но ржавые скобы, выдавшие его тебе, это вовсе не образ, вовсе не аллегория! Нет, белый листок, который он осязает, который слышит и, наверное, видит, но который для него все же прозрачнее воздуха, немее эфира и мнимее, чем поверхность идеальных тел, продырявлен грубыми скобами из мира сего.
Но взгляните на его восторг! Неужели и человек, обитающий уже внутри чуда и ныне осторожно вступающий на наклонную плоскость неведомой земли, наверняка зная всем своим существом, что она явлена ему как удивительная ипостась того, что он называл «время, прожитое мною», неужели и такой человек еще алчет познания (о, вовсе не познания причин, но того, что может быть одновременно одеянием, одеваемым и одевающим) и поет ему хвалу? Абсурд!
Йод и соль, волны, словно жертвенные барашки, остриженные перед жертвоприношением, сломанная мачта, и со стоном гудящая рея; и эти до небес вздымающиеся лазурные горы на горизонте — при этом они так далеки, что кажутся не выше цепи коралловых островов, а над ними — колечки облаков, голубицы и много солнц — какое предчувствие ошеломляющей свободы, чьей хартией был листок посреди урагана, этот то ли свиток, то ли клочок, то ли сгустившаяся молния. Хартией свободы. Вот почему человек с повисшими руками и склоненной головой должен был, хотя бы там ничего и не оказалось, все же прочесть его. Он обратил взгляд к распятому, чтобы убедиться, вправду ли можно назвать свободой то, что видно через окна заколдованного замка, где была заключена его зависимость, и прочитал — не читая, увидел — не видя, услышал — не слыша: соглашаться и отказываться. — Да и нет едины.
Теперь наблюдать за ним уже невозможно. Теперь он не здесь. Но это такое «не здесь», какое себе могла бы (если могла бы) представить линия, говоря о пространстве. Море поглотило и переваривает. Снова беспредельность, но обузданная. Многие солнца собрались в одно, как камешки в стереоскопе. Нет больше застывших парящих голубиц, есть лишь чайки, летающие низко и испуганно. Зачем было думать о блаженных, мучениках и их палачах? Над сомкнувшимся морем — вновь лишь неведомые континенты, а на них люди, обделенные волей. Они хотели знать.
Теперь наблюдать за ним уже невозможно. Он не здесь. «Не здесь», перед которым наше воображение испаряется, подобно воображению линии перед пространством. Можно, пожалуй, сказать — не завидуйте! — что он сошел туда, где все вопросы парализованы, ибо парализована воля к познанию. Способность судить покинула его; мы сказали бы, что он был освобожден; он сошел (или вознесся? но что это за вопрос!), сошел куда-то, где не только все возможно, но где его ничто не изумляет. Он настолько свободен, что грезит. Он еще свободнее: он, подобно тем завоевателям, что слились с покоренными, покорил свои грезы; подчинился им так же послушно, как живые и бодрствующие, разучившиеся мыслить самостоятельно, подчиняются изученному, которое не более чем категорический императив мысли, императив миража. Вовсе нет! Он еще намного свободнее. Ибо он не может иначе, он одновременно соглашается и отказывается. Все, что он видит, слышит, осязает, думает, становится им; буквально им. — Так сдайтесь же, бодрствующие! Не грезам — вы, конечно, хотели бы этого! — не грезам, которые вас избегают, но их немым неласковым объятиям, что обхватили ваш день и толкают его в будущий сон. Кокон, в котором ночь играет в мертвеца. Но в куколке, помещающейся на ладони, зреет непомерный империализм крыльев. Есть ли доказательство более убедительное, что ваши грезы — это вы сами?
Самая первая «мысль» уходящих — это видение. Видение, потому-то сон — брат смерти. (Так говорит словарь нашей скорби. И наоборот: «Свобода снов равна свободе смерти».)
Вот ведь отвратительный лиризм живого писателя, заплутавшего на границе, откуда он смотрит в обе стороны и, смотря в обе стороны, увлекается вместо того, чтобы распоряжаться. Забыть об утопающем! Думать о чертежных кнопках, то есть помнить о чертежных кнопках! До сих пор распоряжаться не было моим ремеслом. Уж не помню, кто именно отказался выдать мне диплом надсмотрщика. Но хотя мои мысли и были заняты чертежными кнопками, о Наполеоне я еще не забыл. Даже перед лицом Святой инквизиции я все-таки сумею с кривой улыбкой, открывающей мои редкие зубы — зубы лжеца, и водрузив на голову шутовскую митру (это из спортивного честолюбия, чтобы меня не приняли всерьез), сказать: рай был; и первородный грех тоже; и из-за первородного греха мы были из рая изгнаны. Рай был; и раем был край «всего возможного», то есть край, где все не только возможно, но даже и не изумляет. Пожалуйста, пока еще не убегайте. Я не исключаю, что позже вы от своего согласия отречетесь. Мне было бы вас жаль; это бы доказало вашу несостоятельность. Не более. Еще по паре коктейлей, и мы пришли бы к согласию. Пара коктейлей — это немного, но я исхожу из некоего минимума в кошельке. Я, понятно, предвижу остроумные шутки, под которые себя великодушно подставил. Но мне, знающему, на что способна пара коктейлей, мало дела до шуток. Способна она на многое; она снимает с ангелов их излишнюю скромность и стыд, а со свиноторговцев — костюм от дорогого портного, в котором они притворяются джентльменами.