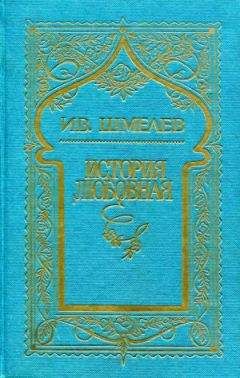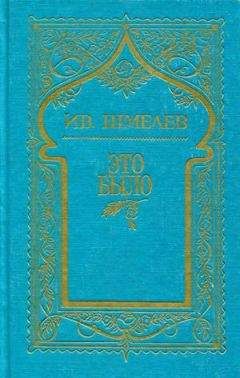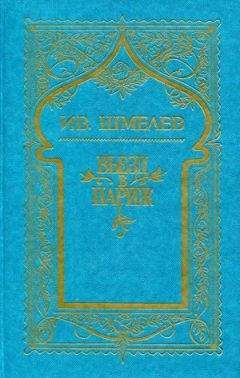Иван Шмелев - История любовная
Когда мы списывали с Женькой в прошлом году, я решительно заявил, что скорее склонюсь к мнению о любви – «Эдипа», а не к размениванию чувства на всяких там «Маш и Люб», как это у «Сенеки». Женька заспорил и назвал «Сенеку» гениальным человеком.
– Прямо мефистофельское отношение! – обрадовался он чему-то. – Фауст ка-кие вопросы решал, а он подсунул ему Маргариточку да еще глупенькую, – весь Фауст и скапустился!
– Это ничего не доказывает, и ты – болван! – рассердился я. – У Фауста из любви трагедия получилась… то есть у Маргариты! Да и у Фауста!… Черту душу продал, а не получил любви на полтинник! Это твой «Сенека» сидел под липкой с портнишками…
– И я бы посидел!… – сказал Женька. – Нет, гениальный человек! Так и Наполеон смотрел.
– Нет, – сказал я, – тогда никакой поэзии, и все эмоции слез, страданий и радостей, – для чего даны? А чичиковское отношение к жизни, как только приобретателя, – пошлость и торгашество! Все за деньги купить можно? и Машу, и Любовь? И сидеть под липкой?! Чу-вства нельзя купить! «Эдип» заплатил кровью! Графиня сошла с ума!… Вот что значит любовь.
– Оба и дураки! – сказал Женька и потом всю дорогу напевал «Сенеку».
Теперь я еще более уверился, до чего я был прав тогда. Пусть Женька купил бы ее любовь! Она ему отписала. А что назначила свиданье на завтра – ясно, что посмеялась. Ее же нет…
Меня потянуло в сад, но что-то меня держало. Нельзя нарушать очарования! Там будет первая моя встреча с любимой женщиной, с первой женщиной, встретившейся мне в жизни. И пусть в первый раз в эту дивную весну моей жизни, когда я узнал любовь, я войду вместе с нею! И я нежно скажу любимой: «вы – первая женщина, с которой я так вхожу в этот таинственный, полный немого очарования и тайны, исторический сад, где каждый укромный уголок, каждая уходящая в глушь тропинка, беседка, скамейка и эти темнеющие аллеи говорят только о любви!» Как это восхитительно-чудесно будет: «вы – первая!»
Так мечтая, я вынул ее письма. Они по-прежнему одуряюще-дивно пахли. Я перебегал по строчкам, вылавливая любимые: «я знаю, что вы хорошенький»… и готова расцеловать вас, ну, пусть даже – «как женщина»… «вы будите во мне странные ощущения»… «в каждой женщине есть вакханка»…
Вакханка… Это значит – отдающаяся безумной страсти? Они, обнаженные, бегали по полям и холмам, ночью, с горящими факелами, и кричали в исступленном безумии – «эвоэ»! «Грек» Васька так и не объяснил, для чего они это делали. Прошепелявил только: «Ну, это, изворите ри видеть, да-с… к деру не относится! Просто сумашедшие женщины, симвор пороков, исчезнувший с появрением образования и христианства-с…пьяные бабы-с, крикуши-с!…» Но мы отлично поняли, когда намекнул Фед-Владимирыч, что это – «праздник богу Любви, как у предков наших, славян, – Яриле! Любовь просыпается весной! Понятно?…» – «Понятно!» – ответили мы хором. «Ну, то-то!… – усмехнулся Фед-Владимирыч, – но вам, молодые люди, рановато… надо сперва экзамены-с!…»
Они метались, а сатиры на козлиных ногах, «крепкие телом», гнались за ними. И они, загнанные в леса сатирами, отдавались любви, как жертве!… Боже мой, неужели и она тоже, как вакханка?! Пришел ей срок, и она отдалась сатиру, этому бородатому болвану?., и – толстяку?…
Очарование вечера и весны пропало. Захотелось – скорей туда. Вдруг подхожу и вижу: она – в окошке! Целой компанией вернулись!., просто в Сокольниках гуляли…
Я поспешил вернуться. Окошки были по-прежнему открыты. Глядела на улицу толстуха. Я снял фуражку в надежде, что она мне скажет: «а знаете, Симочка-то вернулась!» Но она сказала:
– Гулять ходили? Воздух-то уж очень… гигиена!… Дура! И я ответил:
– Немножко к Нескучному прошелся. Передайте привет, пожалуйста…
– Будьте спокойны, – ласково ответила толстуха. – Может быть, к вечеру завтра и вернется. Отстоит обедню…
Меня охватила радость. «Отстоит обедню!» Может быть, она просто поехала молиться? Девушки, когда любят, ходят по сорок раз к Иверской, обещают!… И она захотела помолиться…
XXXVI
Паша сидела на крылечке. Рядом сидел конторщик, читал газетку.
– А мы с «Чуркиным» увлекаемся. Осипу-то, читали?… голову размозжили! – заторопился Сметкин. – Прекрасный вечер-с!…
– Михаил Васильич очень читает!… – сказала в восторге Паша. – Чисто как шьет машинка!…
– Немножко все-таки грамотны… – сказал приосанясь Сметкин.
Я постоял, помялся. – Поздравьте-с… – сказал горделиво Сметкин, смотря на Пашу, и меня почему-то испугало. – Красненькую прибавили! Полсотни-с получать буду!…
– Михал Василича очень хозяин ценит… – сказала Паша. – Прямо, капитал громадный! Жениться можно… Будете, что ль, жениться?
– При известных условиях, конечно! Могу жениться. Больше околодочного получаю. Раз знаешь итальянскую бухгалтерию, – могу и сотню!
Он нагло хвастал.
– Ах, Михайла Василич… да уж читайте дальше!… – ломалась, как дура, Паша. – Или погулять пройдемтесь?… – услыхал я, идя сенями.
– Хотите, промчу к Нескучному?… Я приостановился.
– Нет, когда со двора пойду, тогда уж…
Я поднялся к себе и лег на подоконник. Крылечко было за уголком. И вдруг услышал:
– А вот за это!… Крикнул как будто кучер?…
– Вы… не имеете права драться!… – закричал Сметкин с плачем. – Не имеете… не смеете!…
– А вот сме-ю! Я ттебе… ноги поломаю, сволочь!… – сказал кучер. – А вот тоже!…
– Я сейчас в часть пойду!… – жаловался плаксиво Сметкин. – Я вам не позволю нарушать… прикосновение личности!
Я слышал, как орала скорнячиха, смеялся Гришка, резо-нил Василь Василич:
– Вы, Степан Трофимыч, рукам воли не давайте! Ежели племянник ко мне ходит…
– Что ж он, с людями слова сказать не может?! – кричала скорнячиха. – К девушке подошел молодой человек… Жена ваша?!.
– А может, она ему милей жены?! – смеялся Гришка. – Имеет полное право.
– Ты-то уж молчи, трепало! А она, может, сама с Мишей!
– Нет, тетенька, этого я так не оставлю! – храбрился Сметкин. – У меня околодочный Семен Андреич друг-приятель!… Я протокол составлю!
– Боюсь я твоего протокола! Я тебе сказал… ноги поломаю! – спокойно говорил кучер. – Вон городовой идет… Да что, дурака ломает! Ты, Иван Акимыч, меня знаешь… Ходит по чужим дворам, пристает к девчонке. Я тебе сказывал. Девчонка от него плачет…
– Не годится, Михайла Василич, скандал делать! Ходи по своему двору… слова тебе не скажут… – узнал я городового. – Не годится скандалу делать, пристав ходит. Ну, свои люди… неприятностев не надо. Девчонку тоже… срамить не дозволяется!…
– В полпивной сидят вместе! Я сама приставу пожалюсь… – кричала скорнячиха.
– Ну, не шумите, не шумите, Марья Кондратьевна… вы лучше помои-то не лейте в нужник! Да двои у вас без прописки сейчас живут… Я вам ничего не говорю, раз свои люди, знакомые. Чего там, пристав ходит.
Немножко пошумели и затихли. По коридору прошмыгнула Паша. Она еще с самого начала прибежала и, должно быть, подслушивала в окошко.
– Как тебе не стыдно, Паша! – сказал я ей. Она мотнулась, словно ее кольнуло.
– Чего это такой – не стыдно?!. Вы-то чего, всамделе? Что я вам, подначальная досталась? Какой папаша!… Вы лучше за собой глядите, в дрязги лезут!…
Она меня прямо закидала. Ко мне даже не обернулась, стояла боком, крича к чулану. Кудряшки ее дрожали, горели щеки. Я с удивлением увидел, что она и сегодня в новом, в голубенькой матроске! Она стала как будто выше, стройней и краше. И я подумал: какой же у нее изящный носик!
– Ты же себя срамишь… чуть даже не целуешься с мальчишкой… я слышал! Сама тащишь его гулять? Я слышал!…
Она кинула мне в лицо:
– А вам досадно? А когда с другими целовалась… не страмилась?! Бессты-жие!… По бабкам ходят… Вы лучше за собой смотрите! С кем хочусь, с тем и волочусь!
– Да как ты смеешь…? – смутился я. – И ведешь себя, как такая…
Она скакнула ко мне «сорокой», я даже испугался.
– Какая я такая?! – крикнула она злым шипом. – Вы меня где видали?! Со мной гуляли?! Что ко мне дураки-то лезут, так – такая?! Почестнее вашей шлюхи!…
– Не смей оскорблять её! Не смеешь!…
Я поднял палец. Она вдруг плюнула и растерла.
– Шлюха и есть шлюха! Нате вот вам, отдайте… вашей шлюхе!…
Она сунула руку за матроску и вышвырнула клочок картона.
– Не надо… – зашептала она, закрывая лицо руками, – не надо вашего ничего… не надо… ду-ра!…
Я узнал свою карточку, которую она стащила из альбома.
– Ааа… – услыхал я всхлипы.
Она уткнулась в стену. Плечи ее дрожали, трепетали. Меня пронизало болью. Я подошел, коснулся… Она рванулась:
– Оставьте… не трожьте меня!… – всхлипнула она громче и затряслась по-детски. – Не тро… жьте… ох, не трожьте!… ой, не могу… закричу сейчас… не трожьте!
Я страшно испугался, растерялся. Такое же было у тети Маши, когда расстроилась ее свадьба с паркетчиком. Она закричала курицей и хотела скакнуть в окошко.