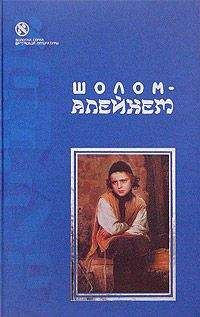Шолом Алейхем - С ярмарки
Мачеха и без того выходила из себя и донимала «классников» (так называла она ребят с тех пор, как они поступили в уездное училище). А так как Шолом был прилежнее всех, то и преследовала она его больше всех. Но тут случилось происшествие, после которого ей пришлось сбавить тон, и она утихомирилась. История эта такова. В одно прекрасное утро Шолом, расхаживая по комнате, заучивал что-то наизусть. Отец стоял тут же в молитвенном облачении и молился. Мачеха же делала свое – пилила отца. Она припоминала ему его старый грех, когда он скрыл от нее существование старших и младших детей, прошлась насчет того, каким хорошим аппетитом, не сглазить бы, отличаются его дети и какие У них здоровые желудки. Не обошла она молчанием и его «родственников». Ее слова, однако, отца мало трогали. Он стоял лицом к стене и молился, точно все это его совершенно не касается. Но вот она стала изощряться в красноречии по адресу Шолома – зачем, мол, он расхаживает по комнате и зубрит.
– Он думает, этот классник, что хрен ему дядька, что он важный барин и свободен от всякого дела, кроме еды! Как же, лакеев и горничных подавай специально для него! Ничего, это не уронит твоей чести, классник ты этакий в стоптанных сапогах, если ты потрудишься внести постояльцу самовар. С тебя, упаси бог, даже волос не упадет, аппетиту твоему это не повредит и свадьбы тоже не расстроит!
«Классник» был уже готов оставить уроки и отправиться в кухню за самоваром, когда отец вдруг бросился к нему, схватил за руку и раздраженно стал говорить по-древнееврейски, не желая прерывать молитвы:
– И-о-ну… Нет, нет! Ни в коем случае! Нельзя, я запрещаю! Я не хочу! – закончил он уже по-еврейски и напустился на мачеху с ожесточением, может быть впервые с тех пор, как она стала его женой; он заявил ей, чтобы она не смела больше распоряжаться Шоломом. Другими детьми – пожалуйста, но только не Шоломом. Шолом – не чета всем. Он должен учиться!
– Раз навсегда! – кричал отец. – Так я хочу! Так оно есть, так оно и будет!
Потому ли, что всякий деспот, всякая сварливая ведьма, услышав громкий окрик, пугается и умолкает, потому ли, что это был первый отпор со стороны отца за время их знакомства и «сладкого» супружества, но случилось чудо – мачеха прикусила язык и умолкла. Она присмирела, словно кошечка. С того времени она совершенно переменилась к Шолому. То есть колкостей и проклятий она и теперь для него не жалела, поминутно попрекая его «классами», постоянно и не без преувеличения намекала, что в неделю уходит пуд бумаги, а чернил не меньше трех бутылок в день, намеренно забывала налить на ночь керосину в лампу, приготовить завтрак и тому подобное. Однако распоряжаться им она больше не осмеливалась. Разве только если он сам не прочь был куда-нибудь сбегать или же присмотреть за самоваром, покачать ребенка.
– Шолом! – мягко и нараспев, как говорят в Бердичеве, обращалась к нему мачеха. – Чем это объяснить – стоит тебе только взглянуть на самовар, как он тут же закипает?
Или:
– Шолом, поди-ка сюда! Почему это ребенок засыпает у тебя в одну минуту?
Или:
– Шолом! Сколько продолжается у тебя сбегать на базар и обратно? Полминуты! Даже и того меньше!
Вскоре Шолому улыбнулась еще одна удача. Когда везет, так уж везет. Однажды в классе смотритель уездного училища, человек неплохой, взял Шолома за ухо и велел передать отцу, чтобы тот пришел к нему в канцелярию. Он должен ему кое-что сказать. Узнав, что «сам директор» вызывает его, Нохум Рабинович не заставил себя долго ждать и, надев субботнюю капоту, заложил еще дальше за уши и без того подвернутые пейсы и пошел послушать, что ему скажет директор. Выяснилось следующее: так как сын его Шолом учится исключительно хорошо, то его по закону полагалось бы принять на казенный счет, но поскольку Шолом еврей, то ему можно только назначить «пенсию» (не то сто двадцать рублей в год, не то сто двадцать рублей в полгода).
В городе поднялся шум, целый переполох. Люди приходили один за другим узнавать, правда ли это.
– А что же, неправда?
– Пенсия?
– Пенсия.
– Назначена казной?
– Не казной, а народным просвещением.
Человек, имеющий отношение к народному просвещению – шутка ли! К вечеру собралась вся родня посмотреть, как выглядит этот обладатель пенсии. Ах, кто не видел тогда сияющего отца, тот вообще не видел счастливого человека. Даже мачеха в тот день радовалась вместе со всеми и была необычайно приветлива, угощала родных чаем с вареньем. В эту минуту она была мила Шолому, он забыл и простил ей все. Что было, то прошло… Он был героем дня. Все смотрели на него, говорили о нем, смеялись и радовались. Дети тети Ханы, которые любили подтрунивать над ним, спрашивали, что он собирается делать с такими деньгами, словно они не знали, что из этих денег он и копейки в глаза не увидит, словно они не знали, что Деньги пригодятся отцу в его деле, в винном погребе «Южного берега»…
Пришел и толстый «Коллектор» в темных очках и глубоких калошах: пришел посмотреть своими слабыми глазами на «прока-азника» и ущипнуть его, этого сорванца, за щеку так, чтобы отщипнуть кусочек. Пришли «зятья» – Лейзер-Иосл и Магидов – поздравить отца, посидеть, поговорить о свете и о просвещении, о прогрессе, цивилизации… А после них пришел Арнольд из Подворок и слегка омрачил радость Шолома. Во-первых, он доказал собравшимся, что они все ослы и сами не знают, о чем говорят. Это вовсе не пенсия, а стипендия. Пенсия это пенсия, а стипендия это стипендия. А во-вторых, Шолом не единственный, в «уездном» есть еще один мальчик, получивший стипендию, тоже в сто двадцать рублей. Это был новый товарищ Шолома по «уездному», звали его Эля. Но о нем после. Пока же герой нашего повествования пребывал на седьмом небе. Ему казалось, что прежние его мечтания о кладе начинают понемногу сбываться, и фантазия подняла его на свои крылья и унесла далеко-далеко в мир грез. Он видел себя окруженным товарищами, которые смотрят на него восторженными, завистливыми глазами. И отца своего видел он совсем еще молодым человеком. Куда девалась его согнутая спина, глубокие морщины на лбу, вечная озабоченность на пожелтевшем лице? Это был совсем другой человек, он даже не вздыхал больше. Шолому представлялось, что вся родня окружает отца, оказывает ему почести, ему и сыну его, избраннику, счастливчику, о котором теперь известно всем, даже «казне», даже «народному просвещению» – всем, всем, а может быть, и самому царю. Кто знает?
52. Новый товарищ – Эля
Эля – сын Доди. – Первое знакомство на пожаре. – Беседы о космографии с дядей Пиней. – Герой открыто нарушает святость субботы. – Его награждают званием «писателя».
Круглое, белое, слегка рябоватое лицо; целая грива жестких, колючих волос, черных и густых; смеющиеся глаза; крепкие белые зубы; короткие пальцы; смех звонкий, рассыпчатый; темперамент огненный – таков портрет Эли, товарища Шолома от первого до последнего классов уездного училища.
Первое их знакомство состоялось ночью на пожаре.
Пожар – это зрелище, даровое представление, исключительно интересное сборище всяких людей – мужчин и женщин, место, где разыгрываются всякие сцены, печальные и веселые – одним словом, своеобразный театр. Ночь тиха, в глубоком небе мерцают звезды. То здесь, то там раздается лай собак, а домишко горит как свеча, спокойно и не спеша. Торопиться нечего! Со всех сторон подходят люди, вначале сонливо, затем все шумней, оживленней; вначале – поодиночке, потом – толпами. Дети Израиля сбегаются целыми оравами. Евреи в арбеканфесах кидаются прямо в огонь спасать добро, женщины визжат, ребятишки плачут, парни отпускают шуточки, девушки хихикают.
Дети Рабиновича тоже здесь. Вдруг Шолом слышит прямо над ухом мальчишеский голос: – Едут!
– Кто?
– Пожарная команда. Пойдем поможем тушить!
Взявшись за руки, мальчики мчатся через всю базарную площадь навстречу пожарной команде. По дороге Шолом узнает, что товарища его зовут Эля и что он сын писаря Доди. А Эля в свою очередь узнает, как зовут Шолома и кто его отец.
Вторая их встреча произошла несколько позже, на этот раз уже днем, но тоже на улице и тоже на даровом представлении. Какой-то черный человек с белыми зубами показывал обезьяну, и за ним бегали мальчишки со всего города. Это было одно из тех любопытных зрелищ, которые так редки в Переяславе. Случалось, что по городу водили медведя с выжженными глазами, пляшущего на палке, или показывали Ваньку Рютютю в красных штанах, проделывавшего разные штуки, иногда давал представление цыган с обезьяной. Цыган и обезьяна – оба на одно лицо, будто их одна мать родила; у обоих одинаково сморщенные заросшие лица, одинаково плешивые головы, и оба смотрят одинаково жалостными глазами, протягивая за подаянием волосатые, грязные, худые руки. Цыган говорит странным голосом, на непонятном языке, покачивая головой и строя такие уморительные гримасы, что поневоле смеешься: