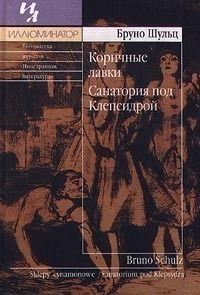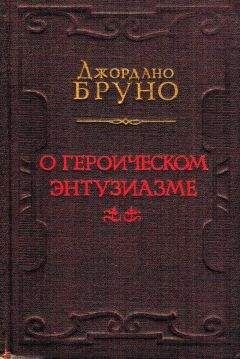Бруно Шульц - Трактат о манекенах
— Масса, масса, наш добрый масса! — хором причитали они.
— Это поистине роковая ночь! — воскликнул я.
— Но в памятной ее истории это будет не последняя трагедия. Однако признаюсь, что такого я не предвидел. Я был несправедлив к нему. В сущности, в его груди билось благородное сердце. Я изменяю свое мнение о нем, мнение близорукое и пристрастное. Все-таки он был хорошим отцом, добрым господином для своих рабов. Моя концепция и здесь терпит банкротство. Но я без сожалений жертвую ею. Ты же, Рудольф, должен утолить боль Бьянки, любить ее удвоенной любовью, заменить ей отца. Думаю, вы захотите взять его тело с собой. Мы выстроимся колонной и двинемся к пристани. Пароход давно гудком призывает вас.
Бьянка села в коляску, мы — на коней, негры подняли на плечи носилки, и все тронулись к пристани. Наша кавалькада замыкала траурную процессию. Во время моей речи гроза кончилась, свет факелов открывал в чаще протяженные глубокие расселины, черные тени сотнями прошмыгивали по бокам и поверху, широким полукругом заходя нам за спину. Наконец мы выехали из леса. Вдали уже виднелся пароходик с большими колесами.
Добавить остается совсем немного, история наша близка к завершению. Под плач Бьянки и негров тело погибшего подняли на палубу. Мы в последний раз выстроились на берегу.
— Осталось еще одно дело, Рудольф, — сказал я, взяв его за пуговицу сюртука — Ты уезжаешь наследником огромного состояния. Я не хочу ни к чему тебя принуждать, скорей уж мне полагалось бы призреть старость этих бездомных светочей человечества, но я, увы, беден.
Рудольф тотчас же достал чековую книжку. Мы посовещались в стороне и быстро пришли к согласию.
— Господа! — обратился я к моей гвардии. — Мой великодушный друг решил исправить мой поступок, лишивший вас хлеба и крова. После всего произошедшего ни один паноптикум не примет вас, тем более что конкуренция огромна. Вам придется отказаться от своих амбиций. Но зато вы станете свободными людьми, а я знаю: вы способны это оценить. Поскольку вас, предназначенных для чистого представительства, не обучили никаким практическим профессиям, мой друг пожертвовал сумму, достаточную для приобретения двенадцати щварцвальдских шарманок. Вы будете странствовать по свету и играть людям для их душевного ободрения. Выбор мелодий оставлен за вами. К чему лишние слова — вы ведь не являетесь подлинными Дрейфусами, Эдисонами и Наполеонами. Вы стали ими, если можно так выразиться, только за неимением лучших. И теперь увеличите круг бесчисленных ваших предшественников, всех этих безымянных Гарибальди, Бисмарков и Мак-Магонов, что, непризнанные, тысячами скитаются по свету. В глубине своих сердец вы останетесь ими навсегда. А сейчас, дорогие друзья, прошу провозгласить вместе со мною: Да здравствуют счастливые новобрачные Рудольф и Бьянка!
— Да здравствуют! — крикнули они хором.
Чернокожие запели негритянскую песню. Когда же все стихло, я мановением руки вновь выстроил их, встал в середину, извлек пистолет и воскликнул:
— А теперь, господа, прощайте! Извлеките урок из того, что сейчас произойдет пусть никто не дерзает угадывать Господни замыслы. Никому никогда не проникнуть в замыслы весны. Ignorabimus, господа, ignorabimus![6]
Я приставил пистолет к виску и нажал на спусковой крючок, но в этот момент кто-то выбил у меня из рук оружие. Около меня стоял офицер фельдъегерей, который, держа в руках бумаги, задал мне вопрос:
— Вы — господин Иосиф N.?
— Да, — с недоумением отвечал я.
— Не снился ли вам некоторое время назад стандартный сон библейского Иосифа? — осведомился офицер.
— Возможно…
— Все правильно, — произнес офицер, заглянув в бумаги. — А известно ли вам, что сон этот был замечен в самой высокой инстанции и подвергнут суровейшей критике?
— Я не отвечаю за свои сны, — сказал я.
— Напротив, отвечаете. Именем его кайзеровско-королевского величества вы арестованы!
Я усмехнулся.
— До чего же неспешна машина правосудия. Бюрократия его кайзеровско-королевского величества страшно медлительна. Давно уже я превзошел этот мой былой сон деяниями куда более тяжелого калибра, за которые сам хотел покарать себя, и вот позабытое сновидение спасает мне жизнь. Я в вашем распоряжении.
Я увидел приближающуюся колонну фельдъегерей. Сам протянул руки, чтобы мне надели наручники. Еще раз обратил взгляд к пароходу. В последний раз увидел Бьянку. Стоя на палубе, она махала платочком. Гвардия инвалидов молча отдала мне честь.
Июльская ночь
Что такое летние ночи, я впервые узнал в год окончания школы во время каникул. В нашем доме, в котором с утра до вечера из открытых окон веяло ветерками, звуками, отблесками жарких дней, появился новый жилец, крохотное, капризное, хнычущее существо, сынок моей сестры. В доме он вызвал своего рода возвращение к первобытным порядкам, повернул социальное развитие к кочевой и гаремной атмосфере матриархата со становьями подгузников, пеленок, распашонок, которые вечно стирали и сушили, с небрежностью женских нарядов, стремящихся к обильному обнажению вегетативно невинного характера, с кисловатым запахом младенчества и набухших молоком грудей.
Сестра после тяжелых родов уехала на воды, зять появлялся только к обеду и ужину, а родители до поздней ночи сидели в лавке. Власть над домом взяла кормилица младенца, чья экспансивная женственность многократно умножалась и черпала полномочия из роли матери-кормительницы. В величии этого сана она своим распространенным и весомым существованием налагала на весь дом печать гинекократии, являющей превосходство сытой и изобильной плотскости, что была распределена в разумном соотношении между ней и двумя девушками-служанками, которым любое дело позволяло развернуть, точно павлиний хвост, весь диапазон самодостаточной женственности. Тихому цветению и созреванию сада, полного лиственного шелеста, серебристых проблесков и тенистой задумчивости, дом наш отвечал ароматом женственности и материнства, что витал над белизною белья и цветущей плотью, и когда в чудовищно яркий полуденный час все занавески настежь распахнутых окон в страхе взлетали, а все пеленки, развешанные на веревках, взвивались сверкающей шпалерой, — через белую эту панику фуляра и полотна пролетали сквозные перистые семянки, пылинки и оброненные лепестки, и сад с перетеканием света и тени, со странствием шумов и раздумий неспешно шел по комнате, как будто в этот час Господень исчезали все преграды и стены и по всему свету в оттоке мысли и чувства пробегал трепет всеобъемлющего единения.
В то лето вечера я проводил в городском кинотеатре. Уходил я из него, когда заканчивался последний сеанс.
Из черноты кинозала, разорванной переполохом мечущихся света и теней, я вступал в тихое светлое фойе, как из беспредельности ночи входят в мирный постоялый двор.
Сердце, запыхавшееся в фантастической гонке по бездорожьям фильма, обретало после чрезмерностей экрана успокоение в светлом этом фойе, огражденном стенами от напора огромной патетической ночи, в этой безопасной гавани, где время давно остановилось, а лампы понапрасну излучали бесплодный свет — волна за волною в ритме, раз навсегда определенном глухим гудением движка, от которого легонько дрожала будка кассирши.
Фойе, погруженное, подобно вокзальному залу ожидания через несколько часов после отхода поезда, в скуку позднего времени, казалось в иные минуты последним фоном бытия, тем, что останется, когда минут все события, когда исчерпается гомон многообразия. На большущей цветной афише Аста Нильсен с черной печатью смерти на челе склонялась, чтобы раз навсегда рухнуть наземь, и уста ее раз навсегда приоткрылись в предсмертном крике, а в очах была сверхчеловеческая трагичность и немыслимая красота.
Кассирша давно уже ушла домой. Сейчас она наверно суетилась в своей комнатке вокруг расстеленной кровати, которая ждала ее, как лодка, чтобы унести в черные лагуны сна, в запутанность сонных приключений и авантюр. Та же, что сидела в будке, была лишь ее оболочкой, иллюзорным фантомом, который всматривался усталыми ярко накрашенными глазами в пустоту света и бездумно помаргивал веками, стряхивая золотую пыльцу сонливости, что сыпалась без конца с электрических лампочек. Время от времени она бледно улыбалась сержанту пожарной стражи, который, сам уже давно утратив собственную реальность, стоял, опершись о стену, навеки недвижимый в своем золотом шлеме, бесплодном великолепии эполетов, серебряных аксельбантов и медалей. Вдалеке позвякивали в ритме движка стекла дверей, ведущих в позднюю июльскую ночь, но отражение электрического паука ослепляло стекло, отрицало ночь и, как могло, штопало иллюзию безопасной гавани, которой не грозит стихия огромной ночи. Но в конце концов чары фойе рассыпались, стеклянные двери отворялись, и красная портьера вздувалась дыханием ночи, которая внезапно становилась всеобъемлющей.