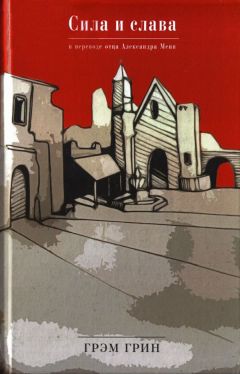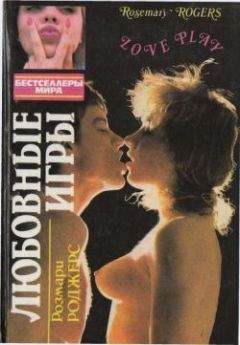Грэм Грин - Избранное
Дрожа, обливаясь потом, насквозь промокший, он вышел на край плато. Там никого не было — мертвый ребенок не в счет, это просто ненужная вещь, брошенная к подножию креста; мать ушла домой. Она сделала все, что хотела сделать. Удивление прогнало лихорадку — прогнало на время, до следующего приступа. Маленький комок сахара — все, что осталось, — лежал у рта ребенка… на случай если чудо произойдет или чтобы покормить отлетевший дух? Со смутным чувством стыда священник нагнулся и взял его; мертвый ребенок не зарычит, как рычала искалеченная собака. Но ему ли отвергать возможность чуда? Он помедлил, стоя под проливным дождем, потом положил сахар в рот. Если Господу будет угодно даровать жизнь ребенку, неужели же он не дарует ему и пищу?
Лишь только он начал есть, лихорадка вернулась; сахар застрял у него в горле, и снова появилась мучительная жажда. Нагнувшись, он стал лизать воду с бугристой земли и даже попробовал сосать свои промокшие штаны. Ребенок лежал под дождевыми струями как темная куча коровьего помета. Священник вернулся к краю плато и стал спускаться вниз по ущелью; он был совсем один теперь — даже лицо исчезло, один тащился по чистой белой бумаге, с каждым шагом уходя все дальше и дальше в пустынную страну.
Где-то там есть, конечно, города, и если идти все дальше и дальше, то дойдешь до побережья, до Тихого океана, до железной дороги в Гватемалу; там будут и шоссе и автомобили. Поезда он не видал уже десять лет. Он представил себе черную линию на карте, бегущую вдоль побережья, видел впереди пятьдесят, сто миль незнакомой страны. Вот по ней он и бредет сейчас; он слишком далеко ушел от людей. Природа убьет его.
И все-таки он шел вперед. Какой смысл возвращаться в опустевшую деревню или на банановую плантацию с издыхающей собакой и рожком для обуви? Оставалось одно: ступать одной ногой, потом другой, сползать вниз, карабкаться вверх. Когда дождь ушел дальше, он выбрался из ущелья и увидел перед собой только огромное неровное пространство, лес, горы и бегущую прочь серую вуаль дождя. Он взглянул в ту сторону и больше не стал смотреть. Это было все равно что вперять глаза в отчаяние.
Прошло часа три, прежде чем подъем кончился; был вечер, вокруг — лес. По деревьям неуклюже и лихо скакали невидимые глазу обезьяны, а вот это, должно быть, змеи, точно зажженные спички, с шипеньем скользят в траве. Он не боялся их: это была хоть какая-то жизнь, и она уходила от него все дальше и дальше. Он расставался не только с людьми, звери и гады и те убегали от него; скоро он останется наедине со своим дыханием.
Он стал читать про себя: «Господи! Возлюбил я великолепие дома твоего».
Запах мокрых, гниющих листьев, душная ночь, темнота… Он в стволе шахты и спускается в глубину земли, чтобы похоронить себя. И скоро обретет могилу.
Когда человек с ружьем подошел к нему, он даже не пошевельнулся. Человек подходил с опаской: в глубине земли не ждешь встреч. Держа ружье наготове, он спросил:
— Ты кто?
Впервые за десять лет священник назвал себя незнакомцу по имени, потому что сил у него не было и жить тоже было незачем.
— Священник? — изумленно переспросил незнакомец. — Откуда вы?
Его снова лихорадило; он плохо понимал, что происходит. Он сказал:
— Не бойся. Я не принесу тебе беды. Я уйду. — Он собрал последние силы и пошел; озадаченное лицо проникло в его лихорадку и снова исчезло. — Заложников больше не будет, — успокоил он себя вслух. Шаги позади не отставали; он опасный человек, и незнакомец выпроваживает его со своего участка, прежде чем вернуться домой. Он громко повторил: — Не бойся. Я здесь не останусь. Мне ничего не надо.
— Отец… — проговорил голос, смиренно, взволнованно.
— Я сейчас уйду. — Он было побежал и вдруг очутился не в лесу, а на длинном, поросшем травой склоне. Внизу были огни, хижины, а здесь, на лесной опушке, — большое, оштукатуренное здание… Казармы? Там солдаты? Он сказал: — Если меня уже увидели, я сдамся. Даю тебе слово, из-за меня никто не пострадает.
— Отец…
Голова у него разламывалась от боли; он оступился и, чтобы не упасть, оперся рукой о стену. Во всем его теле была безмерная усталость. Он спросил:
— Это казармы?
— Отец… — недоумевающе, тревожно сказал голос. — Это наша церковь.
— Церковь? — Священник недоверчиво провел руками по стене, точно слепой, отыскивающий знакомый дом, но усталость ничего не давала ему почувствовать. Он услышал, как человек с ружьем бормочет где-то рядом:
— Такая честь, отец. Надо ударить в колокол… — И вдруг опустился на мокрую от дождя траву, откинул голову к белой стене и уснул, прижавшись лопатками к родимому дому.
Сон его был полон веселых, радостных звуков.
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ
Глава 1
Пожилая женщина сидела на веранде и штопала носки; она была в пенсне, туфли с ног для удобства сбросила. Ее брат мистер Лер читал нью-йоркский журнал трехнедельной давности, но это особенного значения не имело. Тихая, мирная сценка.
— Пейте воду, — сказала мисс Лер. — Пейте сколько хотите.
В прохладном уголке веранды стоял огромный глиняный кувшин с ковшиком и стаканом.
— А вы не кипятите воду? — спросил священник.
— О нет, у нас вода свежая, чистая, — сухо проговорила мисс Лер, как бы не отвечая за то, что делается в других домах.
— Лучшая вода в штате, — сказал ее брат. Глянцевитые журнальные страницы с квадратными, чисто выбритыми, бульдожьими физиономиями сенаторов и конгрессменов похрустывали, когда он переворачивал их. За садовой изгородью, к горному кряжу, шла мягкая волнистая линия луга, а у калитки каждый день покрывалось цветами и каждый день теряло их тюльпанное дерево.
— Сегодня у вас совсем другой вид, отец, — сказала мисс Лер. Английская речь у брата и сестры была гортанная, с легким американским акцентом. Мистер Лер уехал из Германии юношей, чтобы не отбывать воинской повинности. Лицо у него было все в хитрых морщинках — лицо идеалиста. В этой стране без хитрости не проживешь, если хочешь сохранить хоть какие-нибудь идеалы; он изворачивался, охраняя свою добропорядочную жизнь.
— О-о, — сказал мистер Лер. — Отдохнуть несколько дней — вот все, что ему было нужно. — Он не проявлял никакого любопытства к этому человеку, которого его управляющий привез три дня назад на муле в полном изнеможении. Он знал о нем только то, что священник сам рассказал. Вот еще один урок, преподанный этой страной: никого ни о чем не расспрашивай и не заглядывай вперед.
— Скоро я смогу уйти от вас, — сказал священник.
— Зачем торопиться? — сказала мисс Лер, вертя в руках носок брата в поисках дырок.
— Здесь так покойно.
— Ну-у! — сказал мистер Лер. — Неприятности нас не миновали. — Он перелистнул страницу журнала и сказал: — Это сенатор, Хирам Лонг, — его нужно бы одернуть. Оскорбления по адресу других государств до добра не доведут.
— А у вас не пробовали отобрать землю?
Лицо идеалиста повернулось к нему; на нем было написано невинное лукавство.
— Я отдал все, что от меня потребовали, — пятьсот акров пустоши. И сэкономил на налогах. Все равно там ничего не росло. — Он кивнул на подпорки веранды. — Вот то было настоящей неприятностью. Видите следы от пуль? Люди Вильи.
Священник снова встал и выпил еще один стакан воды; пить ему не так уж хотелось — приятно было понежиться в роскоши. Он спросил:
— А далеко отсюда до Лас-Касаса?
— Четыре дня пути, — сказал мистер Лер.
— В его-то состоянии! — сказала мисс Лер. — Шесть дней.
— Там мне все покажется таким странным, — сказал священник. — Город, где есть церкви, университет…
— Мы с сестрой лютеране, — сказал мистер Лер. — Мы не одобряем вашей Церкви, отец. Слишком много у вас роскоши, по-моему. А народ голодает.
Мисс Лер сказала:
— Ну что ты, милый! Отец тут ни при чем.
— Роскоши? — сказал священник. Он стоял возле глиняного кувшина со стаканом в руке, пытаясь собраться с мыслями, и глядел на пологие мирные склоны, поросшие травой. — Вы считаете, что… — Может быть, мистер Лер и прав: ведь когда-то ему действительно жилось привольно, и теперь он снова готов погрузиться в праздность.
— В церквах повсюду позолота.
— Чаще всего это просто краска, — умиротворяюще пробормотал священник. Он думал: да, целых три дня, а что я сделал — ничего. Ничего. И посмотрел на свои ноги, обутые в элегантные ботинки мистера Лера, на запасные брюки мистера Лера. Мистер Лер сказал:
— Он не обидится на мою откровенность. Мы здесь все христиане.
— Да, конечно. Мне интересно послушать ваши…
— По-моему, у вас придают слишком большое значение вещам несущественным.
— Да? Вы считаете, что…