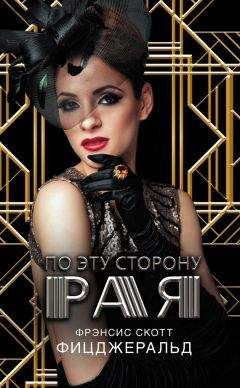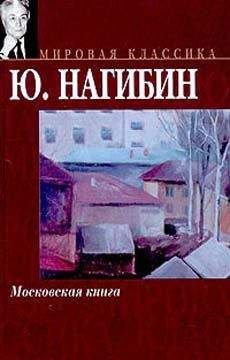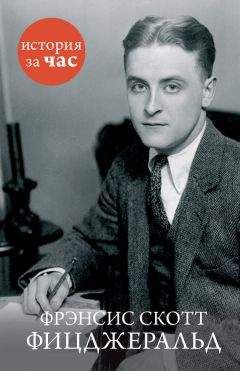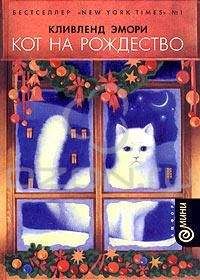Фрэнсис Фицджеральд - По эту сторону рая
Оба страдают, но по-разному.
Розалинда. Неужели ты не понимаешь?
Эмори. Не понимаю, если ты меня любишь. Тебе страшно вместе со мной на два года смириться с некоторыми трудностями.
Розалинда. Я была бы уже не той Розалиндой, которую ты любишь.
Эмори (на грани истерики). Не могу я от тебя отказаться! Не могу, и все тут. Ты должна быть моей.
Розалинда (с жесткой ноткой в голосе). А теперь ты говоришь, как ребенок.
Эмори (закусив удила). Ну и пусть! Ты нам обоим испортила жизнь.
Розалинда. Я выбрала разумный путь, единственно возможный.
Эмори. И ты выйдешь за Досона Райдера?
Розалинда. Не спрашивай. Ты же знаешь, в некоторых отношениях я уже не молода, но в других… в других я как маленькая девочка. Люблю солнце, и красивые вещи, и чтоб было весело, и до смерти боюсь ответственности — не хочу думать про кухню, про кастрюли и веники. Мои заботы — это загорят ли у меня ноги, когда я летом поеду на море.
Эмори. Но ты меня любишь.
Розалинда. Поэтому-то и нужно кончать. Неопределенность — это так больно. Такой сцены, как сегодня, мне больше не выдержать.
Снимает с пальца кольцо и протягивает ему. Глаза у обоих снова наполняются слезами.
Эмори (целуя ее в мокрую щеку). Не надо! Сохрани его, ну пожалуйста! Не разбивай мне сердце!
Она мягко вдавливает кольцо ему в ладонь.
Розалинда (безнадежно). Уйди, прошу тебя.
Эмори. Прощай…
Она бросает на него еще один взгляд, полный бесконечного сожаления, бесконечной тоски.
Розалинда. Не забудь меня, Эмори… Эмори. Прощай…
Он идет к двери, как слепой ищет ручку, находит; она видит, как он вскидывает голову, и вот он ушел. Ушел — она приподнимается, потом падает на диван, лицом в подушки.
Розалинда. О господи, лучше умереть!
Через минуту встает и с закрытыми глазами пробирается к двери. Потом еще раз окидывает взглядом комнату. Здесь они сидели и мечтали; в этот подносик она столько раз насыпала ему спичек; этот абажур они в какое-то блаженно долгое воскресенье предусмотрительно опустили. С блестящими от слез глазами она стоит и вспоминает, потом произносит вслух:
Эмори, дорогой мой, что же я с тобой сделала!
И глубже, чем боль и грусть, которые со временем пройдут, в ней живет чувство, что она что-то потеряла — неведомо что, неведомо как.
Глава II: Методы излечения
В баре «Никербокер», на который с широкой улыбкой взирал многоцветный, веселый «Старый дедушка Коль» работы Максфилда Пэрриша, было людно. Эмори, войдя, остановился и посмотрел на часы: ему необходимо было узнать точное время, присущая ему любовь к перечням и рубрикам требовала отчетливости во всем. Когда-нибудь ему доставит смутное удовлетворение мысль, что «это кончилось ровно в двадцать минут девятого в четверг, десятого июня 1919 года». Было учтено и то, сколько времени он шел сюда от ее дома, — путь, который затем начисто выпал из его памяти.
Он пребывал в каком-то непонятном состоянии. После двух суток непрестанной нервной тревоги, без еды и без сна, завершившихся раздирающей сценой и неожиданно твердым решением Розалинды, его мозг погрузился в спасительное забытье. Он неуклюже рылся в маслинах у стола с бесплатной закуской и, когда к нему подошел и заговорил с ним какой-то человек, выронил маслину из трясущихся пальцев.
— Кого я вижу, Эмори…
Кто-то знакомый по Принстону. Фамилия? Хоть убей, не вспомню.
— Здорово, дружище, — услышал он собственный голос.
— Джим Уилсон. Ты, я вижу, забыл.
— Ну как же, Джим. Конечно, помню.
— На встречу собираешься?
— Еще бы. — И тут же сообразил, что на встречу однокашников он не собирается.
— За морем побывал?
Эмори кивнул, уставясь в пространство. Отступив на шаг, чтобы дать кому-то дорогу, он сшиб на пол тарелку с маслинами, и она звеня разлетелась на куски.
— Жалость какая, — пробормотал он. — Выпьем? Уилсон, изображая тактичность, похлопал его по спине.
— Ты уже и так набрался, старина. Эмори в ответ только посмотрел на него, и Уилсону стало не по себе от этого взгляда.
— Набрался, говоришь? — произнес наконец Эмори. — Да у меня сегодня капли во рту не было. Уилсон явно ему не поверил.
— Так выпьем или нет? — грубо крикнул Эмори. Они двинулись к стойке.
— Виски.
— Мне — «Бронкс».
Уилсон выпил еще одну, Эмори — еще несколько. Они решили посидеть за столиком. В десять часов Уилсона сменил Карлинг из выпуска 15-го года. У Эмори блаженно кружилась голова, мягкое довольство слой за слоем ложилось на душевные увечья, и он без удержу разглагольствовал о войне.
— П-пустая трата духовных сил, — твердил он с тяжеловесным апломбом. — Д-два года жизни в интеллектуальном вакууме. Был идеалист, мечтатель, стал животное. — Он выразительно погрозил кулаком «Дедушке Колю». — Стал пруссаком, насчет женщин в особенности. Раньше я с женщинами по-честному, теперь плевать на них хотел. — В доказательство своей беспринципности он широким жестом смахнул со стола бутылку зельтерской, уготовив ей громкую гибель на полу, но это не помешало ему продолжать: — Лови момент, завтра умрем. В-вот какая у меня теперь философия.
Карлинг зевнул, но Эмори уже не мог унять свое красноречие.
— Раньше хотел понять, откуда компромиссы, половинчатая позиция в жизни. Теперь не хочу понимать, не хочу… — Он так старался внушить Карлингу, что не хочет ничего понимать, что утерял нить своих рассуждений и еще раз объявил во всеуслышание, что он теперь «животное, и точка».
— Ты какое событие празднуешь, Эмори? Эмори доверительно склонился над столиком.
— Праздную крах всей своей ж-жизни. Величайшее бытие. Рассказать про это не могу…
Он услышал, как Карлинг окликнул бармена:
— Дайте стакан бромо-зельцера. Эмори возмущенно замотал головой:
— Н-не желаю!
— Но послушай, Эмори, тебе сейчас станет дурно. На тебе лица нет.
Эмори обдумал эти слова. Хотел посмотреть на себя в зеркале за стойкой, но, даже скосив глаза, не увидел ничего дальше ряда бутылок.
— Мне бы чего-нибудь пожевать, — сказал он. — Пойдем поищем чего-нибудь п-пожевать.
Движением плеч он поправил пиджак с потугой на небрежность манер, но, едва отнял руку от стойки, мешком свалился на стул.
— Пошли через дорогу к «Шенли», — предложил Карлинг, подставляя ему локоть.
С его помощью Эмори заставил свои ноги кое-как пересечь Сорок вторую улицу.
У «Шенли» все было в тумане. Он смутно сознавал, что громко и, как ему казалось, очень четко и убедительно толкует о своем желании раздавить кое-кого каблуком. Уничтожил три огромных сандвича, жадно и быстро, словно три шоколадные конфеты. Потом в сознание снова стала наведываться Розалинда, а губы беззвучно повторяли и повторяли ее имя. А потом его стало клонить ко сну, и ум лениво, равнодушно отметил, что к их столику стягиваются мужчины во фраках, скорей всего — официанты…
…Он был в какой-то комнате, и Карлинг что-то говорил про узел на шнурках.
— Б-брось, — едва выговорил он сквозь дремоту. — Буду спать так…
ВСЕ ЕЩЕ В ВИННЫХ ПАРАХОн проснулся смеясь и лениво обвел глазами комнату — очевидно, номер с ванной в хорошем отеле. Голова у него гудела, картина за картиной складывалась, расплывалась и таяла перед глазами, не вызывая, однако, никакого отклика, кроме желания посмеяться. Он потянулся к телефону на тумбочке.
— Алло, это какой отель?.. «Никербокер»? Отлично. Пришлите в номер два виски.
Он еще полежал, зачем-то гадая, что ему пришлют — бутылку или просто два стакана, уже налитых. Потом с усилием выбрался из постели и зашлепал в ванную.
Когда он вышел оттуда, неспешно растираясь полотенцем, официант уже был в комнате, и Эмори вдруг захотелось его разыграть. Подумав, он решил, что это будет дешево, и жестом отпустил его.
От первых же глотков алкоголя он согрелся, и разрозненные картины стали медленно складываться в киноленту о вчерашнем дне. Снова он увидел Розалинду, как она плакала, зарывшись в подушки, снова почувствовал ее слезы на своей щеке. В ушах зазвучали ее слова: «Не забудь меня, Эмори, не забудь…»
— Черт! — выдохнул он и поперхнулся и рухнул на постель, скрученный судорогой горя. Но через минуту открыл глаза и устремил взгляд к потолку.
— Идиот несчастный! — воскликнул он гадливо, вздохнул всей грудью, встал и пошел к бутылке. А выпив еще стакан, дал волю облегчающим слезам. Он нарочно вызывал к жизни мельчайшие воспоминания сгинувшей весны, облекал эмоции в слова, чтобы растравить свою боль.