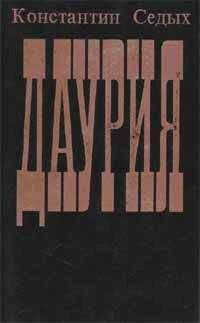Халлдор Лакснесс - Милая фрекен и господский дом
В этом коротком письме только говорилось о том, что неделю назад вернулась домой молодая хозяйка. И ничего больше. Будто бы эта фру Кристенсен была без плоти и духа. Раннвейг даже не сказала, что она чудесный человек. Ни слова не написала ни о детях, ни о старой фру Кристенсен, не говоря уже о самом Вигго. «Я стараюсь забыть все, за исключением моих занятий, и мне некогда писать. С нежным приветом всем», — так заканчивалось письмо Раннвейг. Казалось, повествование оборвалось на самом интересном месте.
— Я не нахожу слов, — сказала старшая дочь, жена управляющего.
— Все это несколько странно, — заметила мать, жена пробста.
— Не обмолвиться ни единым словом о жене Кристенсена! Она же твердо обещала писать! Ну, меня никто не убедит, что тут все чисто.
— А я думаю, что все вполне нормально, — возразила мать.
— Ты меня прости, но у меня на этот счет свое мнение, — заметила дочь.
Старуха с достоинством извлекла из кармана серебряную табакерку.
— Нет, нет, уж я-то хорошо знаю, чего можно ожидать от каждой из вас, девушек!
— Ах, что ты понимаешь в жизни, мама! Разреши мне судить. Разве я не пробыла там два года?
— Конечно! — раздраженно ответила мать. — Ну, честно говоря, за тебя я никогда не могла поручиться, хотя с тобой все и обошлось благополучно.
— Поручиться за меня?
— Ты великолепно знаешь, что я имею в виду. Но вот в Раннвейг я верю, на нее можно во всем положиться. Она унаследовала нрав своей покойной бабки и все хорошие черты характера отцовского рода.
— Почему же она не пишет? Я все время писала. Мать взяла понюшку табаку, прищурила глаз и процедила:
— Дело в том, что ты сумела все устроить…
— Что я сумела, мама?
— Ты ведь не пожелала снять с себя датское платье до тех пор, пока не родила маленькую Гвюдлойг.
— Вот этого я никогда не ожидала от тебя, мама.
— Не стану скрывать, я не чувствовала уверенности в тебе, пока ты ходила в датском платье. Но мне совершенно безразлично, какого фасона платье носит Раннвейг: свободное или в талию. Я знаю, что с ее характером не попадешь в беду.
— Разреши мне только заметить, мама, что в тихом омуте черти водятся.
— Скажи мне лучше, как это вы не могли найти подходящего парня для девушки, раз уж взялись за дело? Сейчас, вдали от дома, она могла бы хоть тосковать о ком-нибудь. А кого вы приглашали сюда в прошлом и позапрошлом году? Сплошное дурачье! Вспомни письма того молокососа, который утверждал, что будет пастором. Разве такие парни в годы моей молодости метили на место пастора? Писать такие письма молодой девушке! Да они скорее были похожи на проповеди! Подумать только, такое ничтожество собирается стать пастором! Возможно ли это, я тебя спрашиваю? Впрочем, Раннвейг даже не стала отвечать на них.
— Ну, знаешь, мама, если Вейге не подходил будущий пастор, кого же ей тогда нужно? Теперь дочери состоятельных людей не могут выбирать женихов, как товар на ярмарке. Сама понимаешь, богатые женихи из Рейкьявика не так уж жаждут вступить в брак с девушкой из провинции. Купцы и чиновники в Рейкьявике предпочитают родниться между собой. А что было бы со мной, если бы не Трифоли? Трудно себе даже представить. Возможно, самой пришлось бы зарабатывать на жизнь.
Этот долгий спор закончился тем, что обо женщины сообща написали Раннвейг строгое, внушительное письмо, приказав ей подробнейшим образом рассказать о себе и других. Они велели ей писать вечерами письма, чтобы у них был самый точный отчет о каждом дне.
Шло время. До конца ноября почта в город не поступала. Сейчас ее ждали сухопутным путем, потому что навигация прекратилась до марта. Наконец, почта из Рейкьявика пришла. Но, не считая нескольких деловых пакетов в адрес Трифоли и каталога Северной торговой компании для пробста, из Копенгагена не было никаких писем. Ни единой строчки, ни единого слова от Раннвейг.
Фру Туридур в ярости примчалась к матери, чтобы обсудить создавшееся положение. При разговоре присутствовал сам пробст. Туридур напомнила матери, что она продолжает оставаться при своем мнении, как и осенью. Она добавила, что ее мнение не лишено оснований. Прежде всего она обрушилась на Копенгаген, заявив, что весь город — вертеп, полный самых непредвиденных соблазнов для одинокой девушки. Она рассказала, как молодые люди нередко останавливали ее по вечерам и предлагали подвезти на машине домой. Один-единственный раз она приняла такое предложение — была ужасная погода, — и ее привезли к старому мрачному загородному дому, где собралась большая компания. Благовоспитанность не позволяет ей описать подробно все, что произошло у нее на глазах. Каким-то чудом ей удалось убежать через черный ход в три часа ночи. Она бежала со всех ног и только к утру добралась домой. Эти приличные на вид молодые люди, предлагающие молодым девушкам подвезти их домой, обычно бывают опасными преступниками. Это агенты торговых компаний. Они охотятся за молодыми невинными девушками и поставляют их в публичные дома Южной Америки. Жена управляющего считала, что лучше умереть, чем пройти через все это.
— Почему же ты никогда не писала нам об этом? — спросила мать.
Туридур заявила, что одно воспоминание об этом происшествии вызывает у нее кошмары, она не хотела пугать родителей.
Стариков ошеломила эта страшная история, и после длительного, вызванного страхом молчания было решено пустить по поселку слух, что фрекен Раннвейг тяжело заболела в Копенгагене.
Старый пробст, засидевшись до поздней ночи, написал дочери длинное письмо, где говорил, что своим молчанием она причинила матери такое горе, которое можот свести ее преждевременно в могилу. «Сохрани тебя бог, дитя мое, — писал он, — оставлять в таком неведении меня и мать».
Прошел целый месяц. Родные Раннвейг почти через день собирались вместе. Думали-гадали о ее судьбе. Они были удручены, встревожены, и все в городе могли видеть, как близко приняли они к сердцу болезнь фрекен Раннвейг.
Наконец прибыла рождественская почта. Пришли красочные открытки родным и знакомым с поздравлениями к рождеству и Новому году на датском языке, подписанные Раннвейг. И единственное письмо — несколько строк — матери. Нет, она вовсе не больна, ей живется хорошо, она много работает в школе, в семье Кристенсенов больше не живет. В начале ноября она переехала в новую, лучшую комнату, поближе к школе. И никаких объяснений. Ни описания новой комнаты, ни единого слова о знакомых, ни единого слова о том, что случилось с самой Раннвейг, — короче говоря, ничего. И по городу был пущен слух, что в начале ноября фрекен Раннвейг поместили в больницу. Правда, сейчас ей стало немного лучше.
Старого пробста заставили написать дочери, что, если она подробно не напишет, что произошло, семейство будет вынуждено вернуть ее домой. Фирма Трифоли в Копенгагене получит распоряжение не выдавать ей денег на жизнь. Мать и сестра дополнили эту угрозу соответствующими увещеваниями. Ей недвусмысленно намекали, что она попала в лапы торговцев белыми рабынями и что страх за нее лишил их сна. Теперь у них нет ни единой радостной минуты. Но все эти настояния ни к чему не привели: фрекен Раннвейг продолжала молчать.
С январской почтой вовсе не пришло писем. Не было их и в феврале. И вот по городу прошел слух, что дочь пробста вновь заболела. В каждом домике говорили о болезни Раннвейг, все вдруг почувствовали, как горячо они ее любили, и так было печально потерять ее, такую молодую и прекрасную. Все верили, что милосердный бог непременно возвратит ей здоровье. Наконец, обитатели господского дома приняли решение: с последним зимним транспортом управляющий собственной персоной должен отправиться в Копенгаген и лично выяснить, что случилось с фрекен Раннвейг.
Управляющему предстояло поехать в Данию по делам службы в мае или июне, но мать и дочь добились своего. Он отправится на три месяца раньше, как раз в то время года, когда море особенно бурно. Через две недели рейсовым пароходом он доберется до Рейкьявика, а еще через три недели прибудет в Копенгаген.
И вот прибыл рейсовый пароход.
Погода была ужаснейшая, какая бывает только на исходе зимы. Дни стали длиннее, и все время свирепствовала пурга. Не очень-то весело было управляющему покинуть теплое жилье и отправиться в пятинедельное путешествие вдоль ветреного побережья Исландии, пересечь суровый Атлантический океан, минуя Фарерские острова и Шотландию, прежде чем он попадет в Данию. Но женщины были безжалостны. Впрочем, февраль они считали счастливым для себя месяцем, и управляющий покорился своей судьбе. Когда сквозь снежную вьюгу в это хмурое утро неприветливого дня с парохода донеслись звуки сирены, чемоданы управляющего стояли наготове в передней. Он еще наслаждался минутами, проводимыми дома, к его смятенным чувствам примешивались и тревога и решительность, правда, не лишенная чувства страха. Чем он не герой романа? Он сидел в кресле, грустно посасывая сигару, и ласково поглядывал на детей, игравших в комнате. Он обещал к весне привезти им красивые игрушки, если с божьей помощью ему удастся вернуться домой.