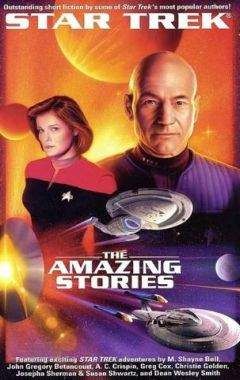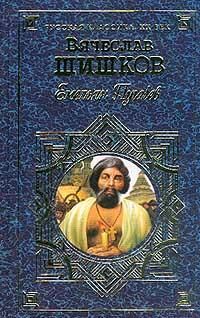Павел Вяземский - Письма и записки Оммер де Гелль
П. Попов писал статью с плохо скрываемым раздражением, лучше всего передаваемым следующей сентенцией: «Настала также пора перестать примешивать блудливую фантазию Вяземского (Попов довольно подробно рассказывает о маразме и старческом эротизме автора «Писем и записок…» — А. Я.) к биографии нашего поэта». Или несколько ниже с той же прокурорской интонацией: «Все исторические анекдоты не без вранья. Такова всякая анекдотическая история, культивировавшаяся Бартеневым» (с. 289). Пишет это о замечательном ученом, подвижнике исторических разысканий, создателе «Русского архива» — журнала, без которого никогда не сможет обойтись ни один серьезный историк русской литературы, общественной мысли, политической жизни, — пишет это о Петре Ивановиче Бартеневе вовсе не «исторический нигилист», разрушитель, вульгарный социолог или «космополит». Пишет Павел Сергеевич Попов — блестяще образованный филолог, человек академического склада, друг, конфидент и первый биограф М. А. Булгакова. Откуда же такое раздражение? Рискну предположить: Попов гневался не на Бартенева и даже не на мистификатора Вяземского. Именно его — человека устоявшихся «консервативных» вкусов — должна была раздражить эффектная свистопляска, разразившаяся вокруг Омер де Гелль. Недаром он брезгливо поминает произведения Большакова, Павленко, Сергеева-Ценского.
Разоблачение подделки Вяземского совпало с начинающимся литературным поворотом: в 1935 году Лермонтов уже не должен был пленяться француженкой, самовольно отлучаться из строя и тосковать по чужбине; конечно, мотив противопоставленности поэта и николаевской эпохи сохранялся и в эту пору, но все же огласовки сменились. Сюжет с Омер де Гелль не годился для складывающегося пантеона «правильных» российских классиков. Защищая Лермонтова от стереотипов конца 1920-х годов, П. С. Попов говорил на языке своей эпохи, жертвуя такими «мелочами», как репутация Бартенева или реальные намерения Павла Вяземского, «последыша минувшей культуры» (с. 293).
Работа по разоблачению мистификации новомировской статьей не завершилась. В 1948 году вышел в свет «лермонтовский» том «Литературного наследства» (подготовлен он был гораздо раньше; изданию помешала война) с двумя статьями о злополучных «Письмах и записках… Л. Каплан обнаружил в ЦГАЛИ черновики материалов, безусловно свидетельствующие об авторстве Вяземского[19]. П. С. Попов рассмотрел отклики иностранной печати на издание 1933 года[20]. Здесь тоже не обошлось без курьезов: Ж. Ж. Бруссон предположил что выход «Писем и записок…» и перевод их на французский язык преследовали политические цели, и обвинил переводчика М. Слонима в симпатиях к большевизму. Кое-кто из французских журналистов усомнился в самом факте существования Омер де Гелль, за что и был отчитан П. С. Поповым. Появились и любопытные подробности: вроде бы французская путешественница была на Кавказе только в 1839 году, когда там не было Лермонтова. И уж совершенно точно, что Омер де Гелль она стала именоваться лишь с 1839 года, когда ее муж, награжденный орденом Св. Владимира за открытие железной руды на берегах Днепра, присовокупил к своей фамилии Омер вторую часть.
В общем, аргументов прибавилось, хотя хватило бы и тех, что выдвигал Попов в первой статье. Более того, выяснилось, что перепечатавший в «Книге о Лермонтове» первую подделку Вяземского, написавший сценарий фильма «Кавказский пленник» и выступавший инициатором книжного издания П. Е. Щеголев… успел убедиться в том, что «письма, приписываемые Омер де Гелль, не были ее подлинными писаниями»[21]. Можно, конечно, поверить, что Щеголев прозрел накануне смерти, но останется открытым вопрос: почему же не поверили ему, безусловно очень авторитетному историку, те, кто все же издал книгу в 1933 году? Почему молчал внук Вяземского Шереметев — можно понять: все-таки «семейные тайны». Но почему никому не бросились а глаза несообразности, отмеченные Поповым? Почему никто не заглянул в легкодоступный источник — сборник, выпущенный в память П. П. Вяземского, где в воспоминаниях Н. В. Тимофеева можно прочесть следующее: «В те проблески жизни, когда здоровье несколько возвращалось к князю (о тяжелом недуге, затронувшем психику старика Вяземского, упоминается и в других мемуарах. — А.Н.), он посещал книготорговцев и антиквариев, покупал у них древние вещи и книги. В то же время он усиленно продолжал заниматься сочинениями. Одно из сочинений, по мысли князя, должно было быть иллюстрировано, и он старательно раскрашивал литографированные портреты каких-то иностранцев, военных, штатских и дам. В этом помогал князю почти ежедневно художник Красницкий, ныне также покойный. Сочинение это должно быть в Остафьевском архиве. Я как сейчас вижу синий крашенинный переплет домашнего изделия — это оригинальные сочинения; кроме того, должна быть копия, писанная четким писарским почерком»[22]. Почему, наконец, никто не вспомнил о том, что работы Вяземского о «Слове о полку Игореве» были очень произвольными, многие его наблюдения почитались просто фантастическими и вызывали печатную критику? Почему в связи с Омер де Гелль не заходила речь о том, что предпринятые Вяземским публикации из Остафьевского архива, его воспоминания тоже не отличались особой корректностью? Лучшим ответом на эти вопросы, видимо, могут послужить уже цитировавшиеся слова П. А. Висковатого: «…так созданы люди, что им непременно верится в то, во что им почему-либо хочется верить…» Верится в то, что созвучно общекультурным установкам эпохи.
Каждая эпоха создает свои мифы о прошлом. Мистификации не бывают случайными — в них отражается, иногда против воли мистификаторов, вкус времени, его запросы и стереотипы. Не П. П. Вяземский сделал Омер де Гелль заветной спутницей Лермонтова. Не он выдал в печать «Письма и записки…». Стареющий литератор-дилетант забавлялся, одурачив читателей и специалистов. Он сочинял авантюрный роман — и делал это не слишком умело: многие сюжетные узлы лишь намечены, об иных замыслах Вяземского можно только догадываться[23]. Конечно, без старческого эротизма не обошлось, как не обошлось и без элементарной писательской слабости (умея задумать эпизод и обставить его «натуральными» деталями, Вяземский, как всякий дилетант, абсолютно не владеет искусством композиции). Но было в «Письмах и записках…» и другое: память о литературной моде молодости (парижские главы кажутся окарикатуренным и раздробленным подражанием романам Бальзака), желание поведать о нравах Востока (П. П. Вяземский в конце 1840-х годов служил в Константинополе), своеобразная игра с отцовскими воспоминаниями (А. И. Тургенев был ближайшим другом и постоянным корреспондентом П. А. Вяземского; старый сибарит князь Тюфякин, дипломат Поццо ди Борго, члены семейства Демидовых — его знакомыми, описанными в «записных книжках»). Вяземский пародировал и невежественные суждения иностранцев о России и «обличительную» литературу о «далеком прошлом» (1820-1840-х годах), рисующую ту эпоху сплошь черной краской. Решая одновременно несколько задач, он не мог решить ни одной, видимо и сам временами не понимая, что же он пишет.
Был, впрочем, в сочинительском азарте Вяземского один неприятный мотив, на мой взгляд, более опасный, чем «старческий эротизм»[24]. Я бы назвал это «комплексом наследника». Павел Петрович с презрением относился к «копошению» биографов Лермонтова или Пушкина. Он, сын князя Петра Андреевича, знакомый обоих поэтов, про которых теперь громоздят небылицы (потому и понадобился внутренне язвительный пассаж о Пушкине, засекающем ямщиков, столь ошарашивший комментатора издания 1933 года), свидетель эпохи — он знает все. При такой установке легко смеяться над чужими нелепостями и их пародировать. За смехом и мистификацией стоит гордое сознание носителя абсолютной истины (синдром, сохраняющийся у многих, порой очень серьезных мемуаристов и по сей день). Истину эту все равно обыватели воспринять не в силах, а раз так, то… Многие мемуарные свидетельства Павла Вяземского ныне подвергаются сомнениям, хотя на чем-то же они основаны. Не исключено даже, что какие-то реальные факты натолкнули мистификатора на сюжет «Лермонтов и Омер де Гелль».
Такая гипотеза была высказана И. Гладыш в заметке «К истории взаимоотношений М. Ю. Лермонтова и Н. С. Мартынова (Неизвестная эпиграмма Мартынова)»[25]. Автором был обнаружен следующий текст:
Mon cher Michel
Оставь Adel…
А нет сил,
Пей эликсир…
И вернется снова
К тебе Реброва.
Рецепт возврати не иной,
Лишь Эмиль Верзилиной.
Под эпиграммой приписка, атрибутируемая Лермонтову: «Подлец Мартышка». По приписке устанавливается автор — будущий убийца поэта. Исходя из этого текста (с крайне неясной историей), И. Гладыш предполагает, что знакомство Лермонтова с Омер де Гелль («Adel» эпиграммы) все же имело место, а стало быть, сочинение Вяземского не беспочвенно.