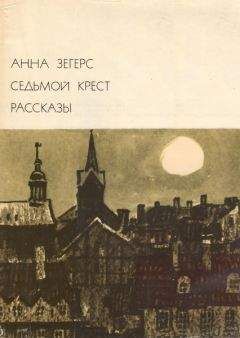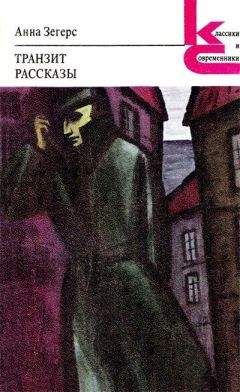Анна Зегерс - Седьмой крест
На высоте двух метров над ним, на дамбе между ивами, бегали часовые с собаками. И собаки и часовые точно взбесились от воя сирен и плотного влажного тумана. Волосы Георга встали дыбом, он весь ощетинился – кто-то выругался совсем рядом, он узнал голос Манс-фельда. Значит, уже оправился от удара, ведь Валлау здорово хватил его лопатой по голове. Георг выпустил из рук кустарник и сполз еще глубже. Он наконец ощутил под ногами тот выступ, который мог здесь служить опорой. Он это предусмотрел еще тогда, когда имел силы вместе с Валлау все заранее высчитать.
Вдруг началось что-то новое. Лишь через несколько мгновений он понял, что не началось, а, наоборот, кончилось – вой сирены. Новой была тишина, в которой особенно громко раздавались то отрывистые свистки, то приказания, доносившиеся из лагеря и из наружного барака. Часовые над ним пробежали за собаками к дальнему концу дамбы. Другие бежали от наружного барака, выстрел, еще, плеск, и хриплый лай собак заглушает другой, тонкий лай, который против собачьего совершенно бессилен, да и не собачий это, но и не человеческий голос, и, вероятно, в человеке, которого они сейчас тащат, не осталось уже ничего похожего на человеческое существо. Это Альберт, подумал Георг. Действительность может обладать такой подавляющей силой, что она кажется сном, хотя какие уж тут сны! Значит, поймали, подумал Георг, как думают во сне. Значит, поймали. Неужели нас теперь осталось только шестеро?
Туман был все еще очень плотен, хоть ножом режь. Вдали за шоссе вспыхнули два огонька, а кажется – у самых камышей. Эти отдельные острые точки легче прокалывали туман, чем широкие лучи прожекторов. Одни за другим загорались огни в крестьянских домах, деревни просыпались. Вскоре круг из огоньков сомкнулся. Таких вещей не бывает, думал Георг, мне просто пригрезилось. Ему неудержимо захотелось покончить со всем этим, бросить все. Ведь достаточно только присесть, затем бульканье – и конец… Прежде всего успокойся, сказал ему Валлау. Валлау, верно, тоже сидит где-нибудь поблизости, в ивняке. Стоило Валлау кому-нибудь сказать: прежде всего успокойся, – и человек сейчас же успокаивался.
Георг ухватился за кустарник. Он медленно пополз вбок. Он был, вероятно, не больше чем метрах в шести от последнего куста, как вдруг, в минуту необычайного прояснения мыслей, его потряс такой приступ страха, что он так и остался висеть на откосе, плашмя, животом к земле; и так же внезапно, как появился, страх исчез.
Беглец дополз до куста. Сирена вторично завыла. Ее, наверно, слышно было далеко по ту сторону Рейна. Георг уткнулся лицом в землю. Спокойствие, спокойствие, сказал ему Валлау из-за плеча. Георг перевел дыхание, повернул голову. Все огни погасли. Туман стал тонким и прозрачным, как легкая золотая ткань. По шоссе ракетами пронеслись фары трех мотоциклов. Завывание сирены, казалось, набухает, хотя оно на самом деле только равномерно усиливалось и ослабевало, неистово впиваясь в мозг людям далеко отсюда. Георг снова уткнулся лицом в землю, – -по дамбе над ним преследователи бежали обратно. Он только покосился уголком глаза. Прожекторам уже нечего было выхватывать, они совсем померкли в утренних сумерках. Только бы не сразу поднялся туман. Вдруг трое стали спускаться по откосу меньше чем в десяти шагах от Георга. Георг опять узнал голос Мансфельда. Ибста он узнал по ругательствам, не по голосу, который от ярости стал тонким – бабий визг. Третий голос, так ужасающе близко, – да они мне сейчас на голову наступят, подумал Георг, – был голос Мейснера, он каждую ночь раздавался в бараках, вызывая то одного, то другого заключенного. Две ночи назад он вызвал в последний раз его, Георга. И сейчас Мейснер после каждого слова чем-то рассекал воздух. Георг чувствовал даже легкий ветерок. Вот сюда… Прямо вниз,… Скоро, что ли?
Второй приступ страха – точно рука, сдавившая сердце. Только бы не быть сейчас человеком, пустить корни, стать стволом ивы среди ив, обрасти корой и ветвями. Мейснер спустился вниз и заревел как бык. Вдруг он смолк. Он увидел меня, решил Георг и почувствовал внезапное спокойствие, страха уже ни следа. Это конец! Прощайте все.
Мейснер спустился еще ниже, к остальным. Они лазали по болоту между дамбой и дорогой. В данную минуту Георг был спасен, потому что находился гораздо ближе, чем они могли предполагать. Если бы он тогда побежал, они теперь уже нашли бы его в болоте. Как странно, что он, обезумевший и затравленный, все-таки с железным упорством держался собственного плана! Эти собственные планы, выношенные бессонными ночами! Какую власть они имеют над человеком в те мгновения, когда все планы рушатся и напрашивается мысль, что кто-то другой создавал за тебя планы. Но и этот другой – ты сам.
Сирена снова смолкла. Георг пополз вбок и одной ногой поскользнулся. Где-то рядом заметался болотный стриж, и Георг от испуга выпустил кустарник. Стриж нырнул в камыш, раздался сухой, резкий шорох. Георг прислушался. Они, конечно, тоже все прислушиваются. Если бы не быть человеком! А если уж быть, так зачем непременно Георгом? Камыш снова распрямился, никого не видно, да ничего, собственно, и не произошло, только птица заметалась на болоте. Все же Георг не в силах был пошевельнуться – колени исцарапаны, плечи онемели. Вдруг он увидел в кустах маленькое бледное остроносое лицо Валлау… из-за каждого куста на него смотрело лицо Валлау.
Затем это прошло. Он стал почти спокоен. Он холодно подумал: Валлау, Фюльграбе и я пробьемся. Мы трое самые крепкие. Бейтлера уже схватили. Беллони, может быть, тоже проскочит. Альдингер слишком стар. Пель-цер слишком мямля. Когда Георг наконец перевернулся на спину, он увидел, что уже наступил день. Туман поднимался. Золотистый прохладный осенний свет лежал над землей, которую можно было бы назвать мирной. На расстоянии метров двадцати Георг увидел два больших плоских камня с белыми краями. До войны дамба служила дорогой на отдаленный хутор, давно уже снесенный или сгоревший. В те годы болото, должно быть, начали осушать; потом его снова затопило вместе с тропинками, которые вели от дамбы к дороге. Вероятно, тогда и были втащены сюда с берега Рейна эти камни. Между камнями кое-где осталась твердая земля, а над ней смыкался камыш. Образовался как бы туннель, по которому можно было проползти на животе.
Эти несколько метров до первого, серого с белыми краями, камня были самой опасной частью пути, почти без прикрытия. Георг крепко вцепился в кустарник, отпустил сначала одну руку, затем другую. Ветви распрямились; с легким шорохом поднялась какая-то птица, – может быть, та самая.
И вот он уже у второго камня; кажется, будто его перенесли сюда в одно мгновенье чьи-то крылья. Если бы он только не так продрог!
IV
Что вся эта немыслимая чертовщина – только дурной сон, от которого он сейчас проснется, нет, только воспоминание о дурном сне, – это чувство Фаренберг испытывал еще долго после того, как ему доложили о случившемся. Правда, Фаренберг как будто с полным хладнокровием принял все меры, каких требовало подобное происшествие. Нет, не Фаренберг, ведь даже самый страшный сон не требует никаких мероприятий: их придумал за начальника кто-то другой, это должный ответ на событие, которого и быть-то не могло.
Когда секунду спустя после его приказа завыла сирена, он осторожно перешагнул через длинный шнур от лампы – препятствие из дурного сна – и подошел к окну. Почему воет сирена? Там, за окном, нет ничего – вид, вполне отвечающий событию, которого и быть не могло.
Даже и мысли не мелькнуло у него, что это ничто все-таки нечто, а именно – густой туман.
Фаренберг пришел в себя от того, что Бунзен зацепился за один из шнуров, тянувшихся через канцелярию в спальню начальника. Фаренберг вдруг зарычал, – разумеется, не на Бунзена, а на Циллига, который только что рапортовал ему о происшествии. Но Фаренберг зарычал не потому, что до него наконец дошел смысл рапорта – единовременный побег семи заключенных, – а чтобы избавиться от давящего кошмара. Бунзен, на редкость красивый человек, метр восемьдесят пять сантиметров ростом, еще раз обернувшись, сказал: «Прошу извинения», и нагнулся, чтобы снова вставить штепсель. У Фаренберга было особое пристрастие к электропроводкам и телефонным установкам. В этих двух комнатах имелось множество проводов и штепселей и вечно производились какие-то починки. Случайно на истекшей неделе был освобожден заключенный Дитрих из Фульды, электротехник по профессии; освобождение последовало как раз после того, как он закончил новую проводку, оказавшуюся затем довольно неудобной. Бунзен подождал, пока Фаренберг нарычится, и только в глазах его искрилась недвусмысленная насмешка. Затем он вышел Фаренберг и Циллиг остались одни…
На крыльце Бунзен закурил папиросу, он затянулся всего один раз и отшвырнул ее. С вечера он был отпущен и сейчас имел в запасе еще полчаса – будущий тесть привез его на своей машине из Висбадена.