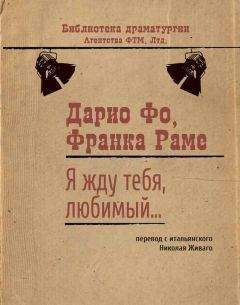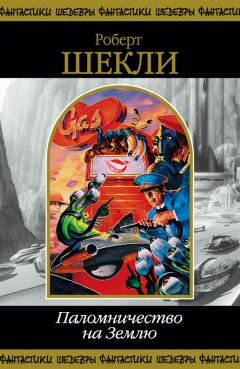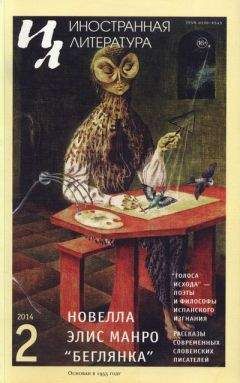Зигфрид Ленц - Урок немецкого
Стоит разгуляться ветру, как нам приходится нагружать карманы балластом, пакетами гвоздей, обрезками свинцовых трубок или утюгами, чтобы сражаться с ним на равных. Такой ветер нам сродни, и нам нечего было возразить Максу Людвигу Нансену, когда он выжимал на холст целые тюбики цинковых красок, брал самые яростные оттенки лилового и холодные белила, чтобы изобразить норд-вест — наш славный и столь подобающий нам норд-вест, к которому отец прислушивался с такой опаской.
В кухне повисла дымная завеса. Пахнущая торфом дымная завеса колебалась в гостиной. Ветер затаился в печи и попыхивал дымом, разнося его по всему дому, между тем как отец сновал взад и вперед, словно бы цепляясь за малейший повод замедлить свой отъезд: то он что-то отставит, то подберет, в конторе пристегнет краги, на кухне раскроет лежащий на столе служебный журнал, каждый раз находя что-нибудь, позволяющее ему отсрочить выполнение долга, покуда он, досадуя и удивляясь, вдруг не убедился, что в нем родилось нечто новое и он помимо своей воли превратился в неукоснительного по службе сельского полицейского, коему для выполнения задачи не хватает только служебного велосипеда, что ждет его в сарае, надежно прислоненный к деревянным козлам.
Похоже, на этот раз не служебное рвение, не радость, сопряженная с выполнением долга, и, уже во всяком случае, не полученное задание заставили его сняться с места, а привычная готовность нести службу, да он и часто отправлялся в поход единственно потому, что надел мундир и снарядился по всей форме. Уходя, он, как обычно, попрощался с домашними, так же вышел в полутемные сени, послушал, бродил в сторону запертых дверей обычное: «Так. Пока… мм…» — и, не получив ответа, не обиделся, не огорчился, а совершенно так, будто ему ответили, кивнул с довольным видом, все так же кивая, потянул меня к двери, на пороге снова повернулся и до того, как ветер вырвал его наружу, сделал неопределенный прощальный жест.
Выйдя, он стал левым плечом против ветра и опустил лицо — сухое, пустое лицо, на котором каждая улыбка, каждое выражение — недоверия или согласия — с трудом пробивало себе дорогу, приобретая неожиданную, хоть и замедленную значительность, отчего казалось: вот человек все как следует усвоил, хотя и с большим запозданием, а там, сгорбившись, пошел по двору, где волчком вертелся ветер, разрывая в клочья газету — победу в Африке, победу в Атлантике, чуть ли не решающую победу на фронте сбора металлолома, пока не пришлепнул ее к проволочной изгороди, где она и застряла. Отец направился к открытому сараю. Кряхтя, подсадил меня на багажник. Ухватив одной рукой заднюю скобу багажника, а другой раму, завернул велосипед. А потом повел его по кирпичной дорожке, остановился под табличкой «Ругбюльский полицейский пост», указующей на наш красно-кирпичный домик, поднял левую педаль в удобное положение, сел и поехал в раздуваемой, туго натянутой ветром накидке, скрепленной зажимом повыше колен, держа направление да Блеекенварф.
Так он благополучно следовал до самой мельницы и чуть ли не до Хольмсенварфа с его мятущимися живыми изгородями, поскольку ветер дул в спину, но затем повернул к дамбе и стал, скрючившись, выгребать наверх — точь-в-точь фигура с рекламного плаката «Велосипедом по Шлезвиг-Гольштейну», где неунывающий турист, согнувшись в три погибели и оторвавшись от седла, самоотверженно демонстрирует те усилия, какие ожидают путника, вздумавшего наведать местные сельские красоты. Однако плакат показывает не только усилия, но и потребную меру умения, необходимую для того, чтобы при боковом ветре, беснующемся в припадке падучей, вести велосипед по гребню дамбы; он показывает положение тела опытного гонщика, свидетельствует о безбрежности северо-западного горизонта, наглядно представляет снежно-белые силовые линии ветра и к тому же, для украшения дамбы в доморощенном вкусе, прибегает все к тем же глупеньким кудлатым овцам, которые провожают глазами и нас с отцом.
Но поскольку описание плаката с необходимостью уподобляется описанию моего отца в его поездке в Блеекенварф, мне хочется для завершения картины не обойти и местных чаек, всех этих поморников, клуш и крачек во главе с редким у нас бургомистром, летящих над головой усталого гонщика декоративно расположенными группами, — слегка размытые неряшливой печатью, они повисли в воздухе, словно белые тряпки, вывешенные для просушки.
Неуклонно по гребню дамбы, неизменной узенькой тропкой, обозначенной коричневой лентой в невысокой траве, отражая наскоки ветра и опустив голубые глаза, с аккуратно сложенным приказом в нагрудном кармане, ехал отец по отлогости дамбы, не спеша, скорее через силу, так что можно было подумать, будто он держит путь на деревянное, выкрашенное в серый цвет здание гостиницы «Горизонт», чтобы согреться стаканом грога и обменяться рукопожатием с трактирщиком Хиинерком Тимсеном, а то и перекинуться двумя-тремя фразами.
Однако мы направлялись не туда. Неподалеку от гостиницы, выходящей на дамбу двумя деревянными пешеходными мостиками, что всегда напоминало мне собаку, положившую лапы на камни ограды, чтобы выглянуть из-за нее, свернули мы и стремглав скатились на утоптанную дорожку, бегущую у подножия дамбы, а потом забрали в обсаженную ольхой длинную подъездную аллею, что ведет в Блеекенварф, к распашным воротам, окантованным белыми планками. Напряжение росло. Нетерпение всегда нарастает, когда вы в апреле при сильном норд-весте движетесь по открытому пространству к определенной цели.
Со вздохом пропустили нас деревянные ворота, распахнутые приторможенным колесом, и мимо пустующего ржаво-красного хлева, мимо пруда и открытого сарая проехали мы не спеша, словно желая заранее предупредить о своем прибытии, а затем и мимо узких окон жилого дома; отец еще до того, как соскочить, оглянулся на пристроенную к усадьбе мастерскую и, поставив меня наземь, словно узел, повел велосипед к входу.
В наших местах не бывает, чтобы кто-нибудь незамеченным приблизился к дому, а потому было бы излишне заставлять отца постучаться, да еще, пожалуй, покричать в полутемную прихожую, излишне описывать приближающиеся шаги и взрыв изумленных приветствий; отцу достаточно было толкнуть дверь и высунуть руку из-под накидки, чтобы почувствовать, как ее тепло пожимают и долго трясут, после чего ему лишь оставалось сказать: «Добрый день, Дитте!», потому что жена художника, встречая нас, уже заранее направилась к дверям, когда мы, подскакивая на ходу, еще только съезжали с дамбы.
В своем длинном платье из грубой ткани напоминая суровую голыптейнскую деревенскую вещунью, она прошла вперед, нащупала в темноте дверную ручку, распахнула дверь и попросила отца войти. Отец сначала отстегнул зажим, скреплявший полы его накидки, для чего широко расставил ноги, слегка согнул их в коленях и шарил под полой до тех пор, пока не нащупал головку зажима, а затем снял накидку, вынырнул из-под нее, оправил мундир, слегка приоткрыл мои одежки и, подталкивая сзади, повел в горницу.
Блеекенварфская горница поражает размерами. Невысокое, но необычайно просторное помещение с множеством окон, здесь можно сыграть свадьбу, пригласив по меньшей мере девятьсот гостей, или разместить семь школьных классов вместе с учителями, и это невзирая на обилие мебели и прочей утвари, вытесняющей своими надменными габаритами немалое пространство: тяжелые лари, столы и шкафы с врезанными в них чуть ли не руническими датами уже своей грозной, повелительной осанкой обещают долголетие. Даже стулья непомерно тяжелы и являют вид осанистый и грозный; они, можно сказать, обязывают к неподвижной позе и самой сдержанной мимике. Неуклюжая темная чайная посуда, так называемый витдюнский фарфор, теснится на полке у. стены. Ею давно уже не пользуются, она была бы недурной мишенью для метания в цель, но художник и его жена с редкостной терпимостью ничего или почти ничего менять не стали, откупив Блеекенварф у дочери старого Фредериксена, который настолько во всем сомневался, что, до того как повеситься на гигантском шкафу, вскрыл себе для верности вены.
Новые хозяева ничего не изменили в убранстве, разве только самую малость в кухне, где сковороды, кастрюли, бочонки и кружки как стояли, так и продолжают стоять в нерушимом порядке. Не тронуты и дряхлые посудные шкафы, где аляповатые витдюнские тарелки соседствуют с необъятными супницами и мисками, и даже кровати сохранились те же — суровые, узкие койки, предоставляющие разве только самую скупую уступку ночи.
Но раз уж отец вошел в горницу, пришлось ему закрыть за собой дверь и поздороваться с доктором Теодором Бусбеком, который, как всегда, в одиночестве сидел на диване, необычайно жестком и узком чуть ли не тридцатиметровом чудище, и словно чего-то дожидался. Доктор Бусбек, посиживая на диване, не читал и не писал, а только дожидался, годами дожидался с какой-то смиренной покорностью, неизменно тщательно одетый и преисполненный неисповедимой готовности, словно те перемены или то известие, которого он ждал, могли прийти с минуты на минуту. Ничто не отражалось на его бледном лице, вернее, то выражение, которое оставил на нем некий опыт, было из осторожности планомерно устранено, словно смыто; однако столько-то было нам известно, что он первым начал выставлять картины художника и в Блеекенварф переехал, когда из его галереи все было дочиста вывезено, а самая галерея закрыта. С улыбкой поспешил он навстречу отцу, что-то спросил насчет ветра, так же ласково улыбнулся мне и снова удалился на диван.