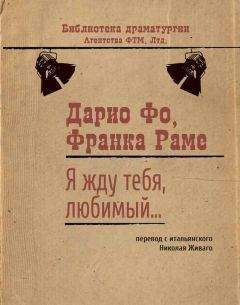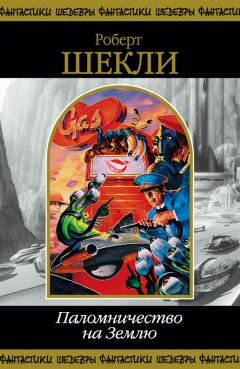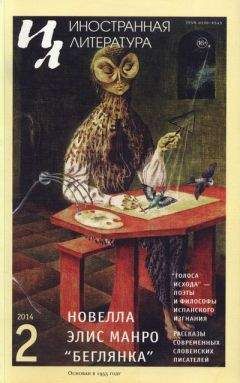Зигфрид Ленц - Урок немецкого
С удивлением и, пожалуй, даже с каким-то пониманием слушал меня директор, между тем как психологи-дипломанты перешептывались, они еще теснее нас окружили и, подталкивая друг друга, взволнованно поминали какой-то «Вартенбургов дефект восприятия», а кто даже и «психосензорное расстройство», показавшееся мне особенно омерзительным. Итак, на меня уже наклеили ярлык — обстоятельство, достаточно мне знакомое. Я наотрез отказался привести дополнительные объяснения в присутствии этих господ: жизнь на острове многому меня научила.
Директор раздумчиво снял руку с моего плеча и критически оглядел ее, словно желая убедиться, что она еще цела, после чего под бесцеремонным присмотром психологов отвернулся к окну, чтобы с минуту поглядеть на гамбургскую зиму, быть может ища у нее совета или подсказки, ибо, внезапно повернувшись ко мне и потупившись, он изрек свой приговор. Меня должно, заявил директор, запереть в моей камере, подвергнуть, как он выразился, «подобающей изоляции» — не в наказание, а чтобы я без помех осознал, что сочинения на заданную тему надо писать в обязательном порядке. Итак, мне давался шанс.
Директор пояснил, разумея мою сестру Хильке, что никакие посетители с воли не должны отвлекать меня от занятий, я также освобождался от работ в веничной мастерской и в местной библиотеке, да и вообще он обещал оградить меня от всяких помех и вторжений, за мной сохранялось пищевое довольствие, чтобы я мог полностью отдаться работе. Сроком, продолжал директор, он меня не ограничивает. От меня требуется лишь одно — прилежно исследовать радости, сопряженные с исполнением долга, Он не советовал торопиться. Пусть все помаленьку капает и нарастает, как мы это наблюдаем при образовании сталактитов и прочих тому подобных явлений природы; воспоминания в иных случаях оборачиваются коварной ловушкой, опасностью, которую даже время бессильно превозмочь. Тут психологи-дипломанты навострили уши, но директор едва ли не сочувственно пожал мне руку — рукопожатия его стихия — и, приказав позвать Йозвига, нашего любимого надзирателя, объявил ему свой приговор.
— Уединение, — добавил он напоследок, — вот что требуется Зигги в первую очередь — время и уединение; позаботьтесь же, чтобы он не испытывал в них недостатка.
С этими словами директор вручил Йозвигу мою пустую тетрадь и отпустил нас. Мы побрели по морозной площади — Йозвиг с таким укоризненно страдальческим видом, как будто мое штрафное задание он считал личным для себя оскорблением. Этот человек, которому дарованы только две радости — коллекция вышедших из обращения денежных купюр и выступления местного хора, — войдя со мной в камеру, угрюмо замкнулся в себе. Схватив его за руку, я попросил не очень на меня сердиться, на что он ответил: «Вспомни, что случилось с Филиппом Нефом», — как бы остерегая меня следовать примеру означенного Филиппа Нефа, одноглазого подростка, который, как и я, был посажен на замок, чтобы написать незадавшееся ему классное сочинение. Два дня и две ночи, как потом выяснилось, бедный малый терзался, не зная, как и приступить — заданная Корбюном тема, помнится, гласила: «Человек, который произвел на меня неизгладимое впечатление», — на третий же день, расправившись с надзирателем и придушив собаку директора, что произвело на нас особенно тягостное впечатление, он бросился к берегу и утонул при попытке переплыть Эльбу в сентябре. Единственное слово, которое Филипп Неф, этот трагический пример пагубной деятельности Корбюна, запечатлел в своей тетради, гласило: «Бородавка»; это можно понять в том смысле, что наибольшее впечатление произвел на него человек с мясистой бородавкой.
Это верно, что Филипп Неф был моим предшественником по камере, куда меня поместили по прибытии в колонию, и, когда Йозвиг напомнил мне о его судьбе, меня охватил незнакомый трепет, какое-то жгучее беспокойство; я прислонился к столу — и отпрянул в испуге, хотел сесть на привычное место — и побоялся; я медлил и дерзал, колебался и отваживался, хотел и не хотел и только частью сознания наблюдал, как Йозвиг обследует мое убежище, и не столько обследует, сколько готовит его для моей штрафной работы.
И вот я сижу битый день и, пожалуй, давно приступил бы, кабы мое внимание, словно нарочно, не отвлекали суда, плывущие по зимней реке; сначала их не видишь, а только слышишь: первым доносится слабое дребезжание машин, за ним следуют мерные толчки и шорох льда, трущегося о железные борта, а потом, по мере того как стукотня становится все явственнее и назойливее, они возникают на фоне свинцово-серого горизонта, выделяясь своими размытыми красками, влажные, вибрирующие, скорее явление воздушной, чем водной стихии. Я вынужден встречать и провожать их взглядом, пока они, пройдя по траверзу, не исчезнут вдали; их заскорузлые от наледи штевни, поручни и вентиляторы, их глазированные надстройки и заиндевелые шпангоуты оживляют застывший пейзаж. Они скользят, оставляя на льду широкий, неровный извилистый обвод, который, убегая к горизонту, постепенно сужается и зарастает. Что до света, то он на нижней Эльбе крайне ненадежен, переходя от свинцового к снежно-серому; фиолетовое то и дело меняет оттенки, красное обходится без своего дополнительного цвета, а небо по направлению к Гамбургу пестрит пятнами, словно от кровоподтеков.
Над противоположным берегом, откуда доносится приглушенный грохот молота, стоит узкая грязноватая полоска тумана, похожая на развернутый марлевый флюгер. Поближе, посреди реки, повисло облачко копоти, оставленное здесь с час назад небольшим ледоколом «Эмми Гуспел», который дробит и распахивает своим неугомонным носом синий лед; продолговатое облачко отказывается погрузиться в воду или раствориться в воздухе, да и многое нынче осталось незаконченным, оттого что мороз объявил забастовку, и даже дыхание застывает в воздухе клубочками пара. «Эмми Гуспел» уже дважды пропыхтела мимо, ей приходится поддерживать лед в движении и не допускать заторов, которые могут привести к деловому тромбозу.
На пустынном берегу покосились таблички с предостерегающими надписями, прибившийся лед расшатал столбы, полая вода довершила дело, а ветер их накренил, так что любителям водного спорта, к кому эти надписи обращены в первую очередь, приходится сильно нагнуть голову, чтобы прочесть, что причаливать, швартоваться и разбивать лагерь на этом берегу строго воспрещается. Однако к лету столбы будут снова укреплены, ведь спортсмены-водники — это как раз тот контингент, который особенно угрожает делу перевоспитания юных правонарушителей. Так считает директор, и такого же мнения, как нетрудно удостовериться, держится его пес.
И только в мастерских не замерла и не сникла жизнь: поскольку нас хотят ознакомить с преимуществами труда и даже открыли в труде некое воспитательное начало, тишине здесь объявлена война: жужжание динамо на электростанции, грохотание молотов в кузнице, яростный визг рубанков в столярной, перестук молотков и царапание скребков в веничной мастерской не прекращаются ни на минуту, и этот неумолчный шум заставляет забыть о зиме, а мне он напоминает о стоящей передо мной задаче. Пора начинать.
Опрятный старый стол испещрен потемневшими щербинами, исчерчен инициалами и памятными датами, говорящими о минутах озлобления, надежды, но также и строптивости. Передо мной открытая тетрадь, готовая запечатлеть мою штрафную работу. Мне больше нельзя уклоняться, пора начинать, пора повернуть ключ в замке и наконец отомкнуть несгораемый шкаф воспоминаний, чтобы достать оттуда то, что отвечает требованиям Корбюна — выявить радости исполненного долга, проследить их воздействие, которое упирается в меня самого, — и все это без помех, в порядке наказания, которое будет длиться, покуда я не докажу, что усвоил преподанный мне урок. Что ж, я готов. И так как мне предстоит продвигаться вперед, сперва надобно вернуться назад, произвести отбор и подыскать место действия — быть может, все же ругбюльский полицейский пост или даже всю Шлезвиг-Голыптейнскую равнину между Глюзерупом, Хузумским шоссе и дамбой, эту местность, которая пересечена для меня единственной дорогой — на Блеекенварф. И даже если придется растолкать дремлющее прошлое, неважно: пора начинать.
Итак, к делу.
Глава II
Запрещение писать картины
В сорок третьем году, если начать с этого, в одну из апрельских пятниц, утром или ближе к полдню, отец мой Йенс Оле Йепсен, полицейский ругбюльского участка — самый северный шлезвиг-гольштейнский полицейский пост — готовился к служебной поездке в Блеекенварф, чтобы вручить художнику Максу Людвигу Нансену, которого у нас называли не иначе, как художник, и никогда не переставали так называть, полученный из Берлина приказ, запрещавший ему писать картины. Не торопясь собирал отец накидку, полевой бинокль, портупею, карманный фонарик и подолгу медлил у письменного стола; он уже вторично застегнул мундир, то и дело посматривая в окно на незадавшийся весенний день и прислушиваясь к завыванию ветра, между тем как я, укутанный с головой, неподвижно стоял и ждал его. Но ветер не только бушевал: норд-вест обрушил свои яростные набеги на дворы, на живые изгороди и высаженные ряды деревьев; испытывая суматошным буйством их устойчивость, он создавал свой собственный, пронизанный ветром черный пейзаж, перекошенный и растерзанный, исполненный неизъяснимого значения. Этот наш ветер, хочу я сказать, наделял крыши вещим слухом, а деревья — пророческим даром, старая мельница вырастала под его порывами, а низко метя над рвами, он вселял в них несбыточные мечты или же, набрасываясь на торфяные баржи, расхищал их беспорядочный груз.