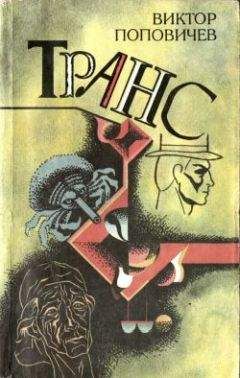Шум и ярость - Фолкнер Уильям Катберт
– Джейсон, – говорит. Я остановился.
– Что – Джейсон? – говорю. – Скорее только. Льет ведь.
– Ладно, – говорит. – Бери. – Вокруг никого. Я вернулся, беру деньги. А она еще не выпускает их. – Но ты сделаешь? – говорит, глядя на меня из-под вуали. – Обещаешь?
– Пусти деньги, – говорю, – пока никого нет. Хочешь, чтоб нас увидел кто-нибудь?
Разжала пальцы. Я спрятал в карман деньги.
– Но сделаешь, Джейсон? – говорит. – Я бы тебя не просила, если бы иначе как-нибудь могла устроить.
– Вот это ты права, что иначе никак не можешь, – говорю. – Обещал – значит, сделаю. Или, может, я не обещал? Но только чтобы все, как я тебе сейчас скажу.
– Хорошо, – говорит, – согласна. – Я сказал ей, где ждать, а сам в городскую конюшню. Прибежал – они как раз выпрягают из кареты. Я к хозяину – заплачено, спрашиваю, уже за карету, он говорит – нет, тогда я говорю, что миссис Компсон забыла одно дело и ей опять нужна карета, – и мне дали. Править сел Минк. Я купил ему сигару, и мы до сумерек ездили по разным улочкам подальше от глаз. Потом Минк сказал, что лошадям пора в конюшню, но я пообещал еще сигару, подъехали мы переулком, и я прошел к дому задним двором. Постоял в передней, определил по голосам, что мать и дядя Мори наверху, и – на кухню. Там Дилси с ней и с Беном. Я взял ее у Дилси, сказал, что матушке потребовалось, – и обратно в дом с ней. Там с вешалки снял дяди Морин макинтош, завернул ее, взял на руки – и в переулок с ней, в карету. Велел Минку ехать на вокзал. Мимо конюшни он боялся, пришлось нам взять в объезд, а потом смотрю – стоит на углу под фонарем, и я говорю Минку, чтобы ехал вдоль тротуарной кромки, а когда скажу: «Гони», чтобы хлестнул лошадей. Я раскутал макинтош, поднес ее к окошку, и Кэдди как увидела, прямо рванулась навстречу.
– Наддай, Минк! – говорю, Минк их кнутом, и мы пронеслись мимо не хуже пожарной бригады. – А теперь, как обещала, – кричу ей, – садись на поезд! – Вижу в заднее стекло – бежит следом. – Хлестни-ка еще разок, – говорю. – Нас дома ждут.
Заворачиваем за угол, а она все бежит.
Вечером пересчитал деньги, спрятал, и настроение стало нормальное. Это тебе наука будет, приговариваю про себя. Лишила человека должности и думала, что это тебе так сойдет. Мне же и в мысль не приходило, что она не сдержит обещания, не уедет тем поездом. Я тогда их еще мало знал, как дурачок им верил. А на следующее утро – пропади ты пропадом – является прямо в магазин, хорошо еще, вуаль опущена и ни с кем ни слова. День субботний, так что с утра Эрла не было, я сижу за столом в задней комнате, и она прямо ко мне быстрым шагом.
– Лгун, – говорит. – Лгун.
– Ты что, с ума сошла? – говорю. – Ты что это? Да как ты смеешь сюда со скандалом? – Осадил ее тут же, не дал и рта раскрыть. – Ты уже стоила мне одной должности, а теперь хочешь, чтоб и эту потерял? Если у тебя есть что сказать мне, то встретимся, когда стемнеет, где-нибудь. Только о чем у нас может идти разговор? – говорю. – Что я, не выполнил все до точки? Уговор был на одну минутку, так или нет? Минуту ты и получила. – Стоит и только смотрит на меня, трясет ее как в лихорадке; руки стиснула, ломает себе пальцы. – Я-то, – говорю, – сделал все по уговору. Это ты солгала. Ты ведь обещала сразу же на поезд. Ну что? Не обещала, скажешь? Или денежки обратно захотелось? Дудки, – говорю. – Я на такой риск шел, что тысячу долларов если бы взял, и тогда бы ты мне еще должна осталась. Семнадцатый пройдет – если не сядешь на него и не уедешь, я скажу матери и дяде Мори, – говорю. – А тогда можешь крест поставить на своих свиданиях.
Стоит смотрит только и сжимает руки.
– Будь проклят, – говорит. – Будь проклят.
– Правильно, – говорю. – Давай, давай. Только учти мои слова. Не уедешь семнадцатым поездом – и я им все расскажу.
Ушла она, и у меня настроение опять стало нормальное. Теперь-то, говорю себе, ты дважды подумаешь, прежде чем лишать человека обещанной должности. В то время я ведь еще зеленый был. Верил на слово. С тех пор поумнел. Притом я как-нибудь уж без чужой поддержки в люди выйду, с детства привык стоять на собственных ногах. Но тут я вдруг вспомнил про Дилси и про дядю Мори. Дилси она улестит без труда, а дядя Мори отца родного продаст за десять долларов. А я сижу как прикованный, не могу уйти из магазина, чтобы оградить родную мать от посягательств. Если уж суждено, говорит матушка, было мне лишиться сына, то хвала господу, что оставил мне тебя, а не его: в тебе моя опора верная. Да, говорю, дальше прилавка, видно, мне от вас действительно не уйти. Должен же кто-то поддерживать своим горбом то немногое, что у нас осталось.
Ну, как только я пришел домой, тут же взял Дилси в работу. У нее проказа, говорю, достал Библию и прочел, как человек гниет заживо. 53 Достаточно ей, говорю, на тебя взглянуть, или на Бена, или на Квентину, как проказа и вам передастся. Ну, думаю, теперь дело в шляпе. Но возвращаюсь я потом со службы – Бен мычит на весь дом. И никак его не успокоят. Матушка говорит, ступай принеси уж ему туфельку. Дилси как будто не слышит. Матушка повторно, а я говорю, сам пойду принесу, чтоб только прекратился этот треклятый шум. Я так скажу, человек я терпеливый, многого от них не ожидаю, но, проработав целый день в дрянной лавке, заслуживаю, кажется, немного тишины, чтобы спокойно поесть свой ужин. Говорю, что я сам схожу, а Дилси быстренько так:
– Джейсон! Ну, я мигом смекнул, в чем тут дело, но, просто чтобы убедиться, пошел принес ему туфлю, и как я и думал: только он ее увидел – завопил, как будто его режут. Я за Дилси, заставил сознаться, потом сказал матери. Пришлось тут же вести ее наверх в постель, а когда тарарам поутих, я взял Дилси в оборот, нагнал на нее страху божьего. То есть насколько это с черномазыми возможно. В том-то и горе со слугами-нигерами, что если они у вас долгое время, то начинают так важничать, прямо хоть выкидывай на свалку. Воображают, что они в доме главные.
– Хотела бы я знать, – говорит, – кому какой вред от того, что она, бедняжка, со своим родным дитем свиделась. При мистере Джейсоне было б оно по-другому.
– Беда только, что он в гробу, – говорю. – Меня ты, я вижу, не ставишь ни в грош, но матушкин запрет для тебя, надеюсь, что-то значит. Вот погоди, доволнуешь ее до того, что тоже в гроб сведешь, а тогда уже хоть полон дом напусти подонков и всякого отребья. Но зачем ты еще идиоту этому несчастному дала с ней увидеться?
– Холодный вы человек, Джейсон, если вы человек вообще, – говорит. – Пускай я черная, но, слава богу, сердцем я теплее вашего.
– Холодный или какой, а только интересно, чей вы все тут хлеб едите, – говорю – Но посмей хоть раз еще такое сделать, и больше тебе у меня его есть не придется.
Так что когда она в следующий раз явилась, я ей сказал, что если опять стакнется с Дилси, то матушка выгонит Дилси в шею, Бена отправит в Джексон, а сама с Квентиной уедет отсюда. Она смотрит так на меня. Мы стоим от фонаря поодаль, и лица мне ее почти не видно. Но я чувствую, как она смотрит. В детстве она, бывало, когда разозлится, а поделать ничего не может, то верхняя губа у нее так и запрыгает. Дерг, дерг, и зубы с каждым разом все видней, а сама стоит как столб, ни мускулом не дрогнет, и лишь губа скачет над оскалом все выше и выше. Однако промолчала. Говорит только:
– Ладно. Сколько платить?
– Ну, если один показ через каретное окошко стоит сотню… – говорю. Так что после этого она заметно посмирнела, раз только как-то захотела посмотреть книжку с банковским счетом.
– Я знаю, мать их получает, – говорит. – Но я хочу видеть банковский отчет. Хочу сама убедиться, куда эти чеки идут.
– Это личное дело матери, – говорю. – Если ты считаешь себя вправе вмешиваться в ее личные дела, то я так и скажу ей, что, по-твоему, деньги по этим чекам незаконно присваиваются и ты требуешь проверки счетов, поскольку не доверяешь ей.
Молчит, не шевельнется. Только слышно, как шепчет: «Будь ты проклят, о, будь проклят, о, будь проклят».