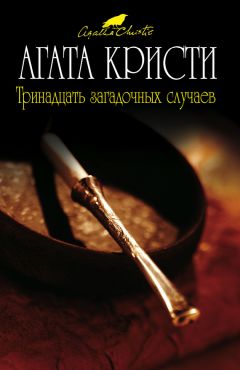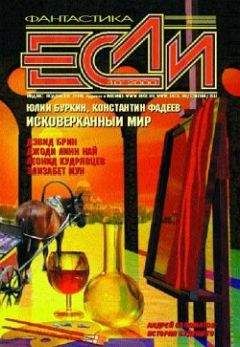Генри Джеймс - Трофеи Пойнтона
Однако она не могла надолго откладывать свое признание.
— Почему вы не подождали, дорогая? Ах, почему, почему не подождали?
Если этот неуместный упрек, готовый сорваться с ее языка, прозвучал не сразу, то только потому, что в первый момент изъявления благодарности помогли ей выиграть время, позволили вполне честно предстать слишком потрясенной, чтобы быть способной к внятной речи. Она поцеловала миссис Герет руки, благоговейно опустилась у ее ног, пролепетала обрывки фраз, среди всех этих жестов сознавая, что на самом деле выражает глухое отчаяние, владевшее ею в душе. Она увидела, что миссис Герет, догадывавшуюся о ее состоянии, внезапно словно осенило, услышала ее вдруг ставший холодным голос, прорезавшийся сквозь фальшивую отвагу расточаемых ласк.
— Вы хотите сказать мне — в такой час, — что потеряли его?
Тон вопроса превращал такое предположение в возможность, от одной мысли о которой Фледу с этого момента охватил ужас.
— Не знаю, миссис Герет. Как я могу сказать? — проговорила она. — Я его целую вечность не видела, как только что сказала, и даже не знаю, где он. Но он не виноват, — поспешно продолжала Фледа, — он приходил бы ко мне каждый день, если бы я позволила. Но я дала ему понять в последний раз, что приму его, только когда он сможет показать мне, что освободился полностью и окончательно. А пока он не может — как же вы не понимаете? — не может, и поэтому-то его до сих пор нет. И так куда лучше, чем если бы он пришел, а потом мы оба будем несчастны. Когда теперь он придет, у него будет совсем другое положение. И он будет безгранично тронут тем, что вы сделали. Я знаю, вам угодно, чтобы я считала, что вы сделали это столько же для меня, сколько для Оуэна, и такое ваше отношение ко мне больше всего его обрадует! Когда он услышит, — продолжала Фледа, захлебываясь от отчаянного оптимизма, — когда он услышит… — Тут, спохватившись, что предваряет события, она запнулась. Что же Оуэн сделает, когда он услышит, она так и не нашла в себе силы сказать, удовлетворившись неуклюжим утверждением: — Не знаю, право, до каких небес он вас не превознесет, какими только ласками не осыплет!
Она проводила миссис Герет к дивану и усадила там со смутным чувством, что тем самым успокаивает ее, да к тому же, что ни говори, выигрывает время; но поза, в которой ее обманутая благодетельница, вновь зловеще спокойная, оставалась на протяжении ее жаркой речи, вряд ли приглашала к каким бы то ни было «ласкам». Фледа, сама того не желая, украшала ситуацию искусственными цветами, пытаясь убедить себя, что Оуэн, чье имя она теперь произносила просто и нежно, вполне возможно, вот-вот к ним присоединится. Ей, как никогда, нужно было, чтобы ее поняли и оправдали; она в ужасе отворачивалась от всего — лишь бы ее простили. И, сжав у локтя руку своей приятельницы, словно умоляя помолчать, она затем, минуту спустя, принялась изливать ей самое важное — то, что составляло ее «тайну»:
— Только не думайте, будто я не люблю его: ведь я сказала ему это прямо. Я люблю его так, что умру за него, — люблю без памяти, ужас как люблю. И не смотрите на меня с укором, будто я не была с ним мила, будто не была нежна, тогда как он умирал от любви, и моя нежность — единственное, что спасло бы его. Нет, пусть ваш взгляд говорит, что вы верите мне, что чувствуете, через что я прошла. Милая, дорогая моя миссис Герет, да я готова целовать землю там, где он ступал. Во мне не осталось ни капли гордости; раньше была, а теперь — нет. Раньше у меня была тайна, но теперь каждый ее знает; стоит только взглянуть на меня — на лице все написано. Впрочем, ничего такого здесь нет, и чем меньше об этом говорить, тем лучше. Но я хочу, чтобы вы знали все от меня, потому что раньше я держалась такой букой. Хочу, чтобы вы сами увидели, что я опустилась ниже некуда. И поделом мне, — рассмеялась Фледа, — нечего мне было держаться с вами гордячкой и невежей! Не знаю, чего вы от меня ждали, но не думаю, что намного больше того, что я сделала. И тогда, на днях, у Мэгги я сделала то, что заставило меня потом подумать о вас! Не знаю, что девушки могут и чего не могут, но если он не знает, что я всеми фибрами моего существа принадлежу ему… — Фледа вздохнула, словно не умела выразить то, что хотела, словами, а нагородила невесть что, как сама бы это назвала; уставив в миссис Герет широко открытые глаза, она, казалось, выпытывала у нее, какой эффект произвели ее слова. — Безрассудство, — вздохнула она с усталой улыбкой, — и так странно, это почти злит меня, но самое странное, что и счастья тоже нет. Одна мука, с самого начала — чувство горечи и какого-то страха. Да, все, что вы говорите, чистая правда. Но вы тоже несправедливы к нему: он — прелесть, уверяю вас — прелесть. Я буду верить ему до последнего вздоха. И он намного умнее, чем кажется; он по-своему интересен — на свой застенчивый лад. Вы говорили мне в Риксе: «Дайте себе волю», и я дала себе волю, вполне достаточно, чтобы открыть это для себя, как и еще много приятного в нем и о нем. Вы скажете, что я изображаю себя хуже, чем я на самом деле, — сказала Фледа, все больше и больше чувствуя по виду миссис Герет, что та относится к ее монологу, как к чистейшей болтовне или даже, пожалуй, как к наглому бреду. Да, она выставляла себя «гадкой» — это входило в ее оправдание; но тут ей вдруг пришло на ум, что представленная картина ее экстравагантности наводит на мысль об отсутствии благородства в молодом человеке. И тогда она заявила: — Мне все равно, что вы думаете, потому что Оуэн, знаете ли, видит меня такою, какая я на самом деле. Он необыкновенно добрый, и это все окупает!
Попытка сделать веселую мину ничего не дала; минутное молчание, которым противная сторона встретила ее смятенную мольбу, только показало ей, насколько скудна ее оборона.
— И это по необыкновенной своей доброте он чуждается вас? — наконец подала голос миссис Герет. — По доброте оставил вас в полном неведении, где он сейчас. — Она снова встала с дивана, где ее удерживала Фледа, и застыла, казалось возвышаясь в величии всех своих обид. — Это по его необыкновенной доброте, после того как я трудилась эти шесть дней, не щадя своих слабых рук, чтобы ради ваших интересов раздеть себя догола и остаться, можно сказать, только в том, что на мне, — по его необыкновенной доброте вы даже не можете предоставить его мне?
В ее словах звучало высокомерное презрение, которое относилось также и к Оуэну и в свете которого Фледа увидела, что ее усилия по части благовидности выглядели не чем иным, как заискиванием. Она встала с дивана с унизительным сознанием просителя, бесполезно ползавшего на коленях. Неприятное чувство, однако, мучило ее не более мгновения: его развеял прилив верности тому, кто отсутствовал. Сама она могла терпеть пренебрежительные попреки его матери, но, ограждая его прекрасную невинность, бросилась протестовать с такой стремительностью, что порыв ее походил на замах рукой.
— Не вините его… не вините его: он все на свете для меня бы сделал! — горячо заговорила Фледа. — Это я — я послала его к ней, я заставила его поехать, я выпроводила его из дома, я отказалась дать ответ — разве только на другом основании.
Миссис Герет уставилась на нее, словно на последствия каких-то варварских разрушений.
— Другом основании? Каком другом основании?
— На том, какое я, моя дорогая, уже изложила вам: я хочу иметь от нее подтверждение — черным по белому, как вы сказали бы, — что она сама его отпускает.
— Так вы считаете, Оуэн вам лжет, когда говорит, что он снова свободен?
На мгновение Фледа замялась, но тут же с холодной гордостью воскликнула:
— Он так влюблен в меня, что готов на все!
— На все, очевидно, кроме того, чтобы действовать, как мужчина, и, употребив свой ум и волю, заставить вас отказаться от ваших немыслимых глупостей. На все, кроме того, чтобы покончить, как покончил бы любой мужчина, достойный этого имени, с вашим постоянным, вашим идиотским своенравием. Кто вы такая, уж если на то пошло, хотела бы я знать, моя дорогая, чтобы джентльмен, предлагающий вам то, что предлагает Оуэн, был вынужден выполнять подобные требования и принимать чрезвычайные предосторожности из-за ваших надуманных угрызений совести?
Ее негодование разрослось до оскорбительной надменности, которую Фледа, не отводя глаз, принимала как должное и которая — в данный, по крайней мере, момент — с огромной силой мстительно выставляла перед ней подлинную правду. На какое-то мгновение ей открылась возможность других — утраченных — решений.
— Не знаю, что и думать о нем, — продолжала миссис Герет, — не знаю, как его назвать. Мне стыдно за него — так стыдно, что язык едва поворачивается, говоря о нем, даже с вами. Мне так стыдно за вас обоих, что, право, не знаю, куда глаза девать. — Она умолкла, чтобы дать Фледе возможность вникнуть в столь важные утверждения, и затем воскликнула: — Да любой человек, если он не осел безмозглый, взял бы вас под руку и отвел в мэрию!
![Жюль Верн - Миссис Брэникен [Миссис Бреникен]](/uploads/posts/books/28288/28288.jpg)
![Жюль Верн - Миссис Брэникен [Миссис Бреникен]](/uploads/posts/books/28259/28259.jpg)