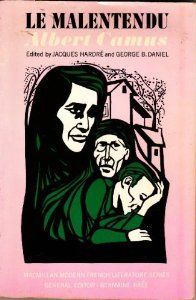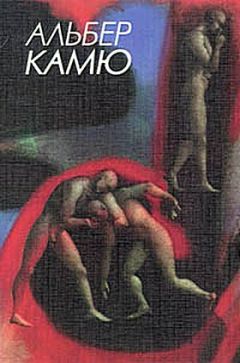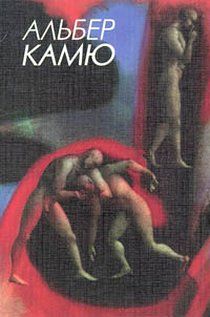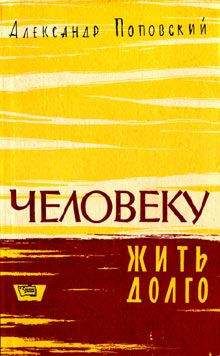Альбер Камю - Первый человек
Еще они ходили по четвергам в муниципальную библиотеку[150]. Жак и раньше поглощал попадавшиеся ему под руку книги так же ненасытно, как он жил, играл или мечтал. Чтение позволяло ему ускользнуть в блаженный мир, где богатство и бедность были одинаково привлекательны, ибо совершенно нереальны. Большие альбомы с иллюстрированными выпусками «Неустрашимого», переходившие из рук в руки столько раз, что картонный переплет терял всякий вид и цвет, а страницы замусоливались до дыр, первыми увлекли его в атмосферу веселья и лихих приключений, утоляя в нем одновременно и жажду смешного, и жажду героического. Любовь к героизму и эффектным подвигам была явно очень сильна у обоих мальчиков, особенно если судить по невероятному количеству проглоченных ими романов плаща и шпаги и по той легкости, с которой персонажи «Пардайяна» входили в их повседневную жизнь. Их главным автором был Мишель Зевако, и Возрождение, особенно итальянское, расцвеченное золотом и пурпуром, утопавшее в роскоши римских и флорентийских дворцов, где тайно властвовали кинжал и яд, влекло непреодолимо этих двух аристократов: нередко посреди пыльной желтой улицы, где жил Пьер, они выхватывали длинные лакированные линейки и устраивали между мусорными ящиками горячие поединки, надолго оставлявшие следы на ладонях и пальцах[151]. В то время они не могли достать других книг, потому что попросить было не у кого, а сами они ничего купить не могли, разве что изредка дешевые популярные книжки, валявшиеся на прилавках местных книготорговцев.
Но примерно тогда же, когда они поступили в лицей, в их районе открылась муниципальная библиотека. Она располагалась на полпути между их окраиной и более высокой частью города, где начинались красивые улицы с виллами и садами, полными душистых кустарников и деревьев, так буйно растущих на теплых и влажных склонах Алжира. Рядом с виллами раскинулся большой парк пансиона св. Одилии, религиозного заведения, куда принимали только девочек. Здесь, так близко и в то же время так далеко от их квартала, Жак и Пьер испытали самое глубокое в своей жизни волнение (о котором еще не наступило время рассказать, о котором будет рассказано… и т. д.). Граница, разделявшая эти два мира (один пыльный и голый, где все пространство было отдано камням и ютившимся в каменных мешках людям, другой — весь в цветах и деревьях, даривших его обитателям единственную подлинную роскошь на этой земле), пролегала по широкому бульвару, усаженному с обеих сторон великолепными платанами. На одной его стороне стояли виллы, на другой — маленькие дешевые дома. На этой границе и находилась библиотека.
Она работала три раза в неделю по вечерам, а в четверг еще и с утра. Молодая учительница, довольно невзрачная, бесплатно посвящала библиотеке несколько часов свободного времени. Она сидела за широким белым столом и выдавала книги. Все стены вокруг были заняты светлыми деревянными стеллажами с книгами в черных матерчатых переплетах. Там стоял еще маленький столик с двумя-тремя стульями — для тех, кто хотел быстро заглянуть в энциклопедию или в словарь, ибо читального зала там не было — и алфавитный каталог, в который ни Жак, ни Пьер никогда не заглядывали, предпочитая бродить вдоль полок и выбирать книгу по названию, реже — по фамилии автора, после чего они смотрели ее номер и записывали на голубой бланк заказа. Чтобы иметь право брать здесь книги, надо было всего лишь представить квитанцию об уплате за квартиру и регулярно платить незначительный взнос. Тогда выдавали карточку со сложенным гармошкой вкладышем — сюда заносились названия взятых книг, которые учительница записывала одновременно к себе в журнал.
Главным образом здесь были романы, но многие из них не выдавались детям до пятнадцати лет и стояли отдельно. Выбирая из оставшихся, Жак и Пьер руководствовались исключительно интуицией. Однако случай не самый плохой советчик в таких делах, и они поглощали лучшее наравне с худшим, не стремясь вынести из чтения что-либо для себя полезное и действительно не выносили почти ничего, кроме странного и сильного волнения, из которого рождался, разрастаясь из года в год, огромный мир картин и образов, не имевший ничего общего с их настоящей жизнью, но ничуть не менее реальный для этих пылких читателей, которые жили в мечтах так же напряженно, как в повседневной действительности[152][153].
Содержание книг, в общем, не имело значения. Важно было, что они чувствовали — сначала в самой библиотеке, которая была для них не комнатой с черными от книг стенами, а необозримым пространством с безграничными далями, и, едва попав туда, они оказывались далеко за пределами замкнутой жизни их квартала. Потом наступал момент, когда, получив дозволенные книги и крепко зажав их под мышкой, они шли по уже темному в этот час бульвару, наступая на круглые и твердые плоды платанов, и предвкушали удовольствие от новых книг, заранее сравнивая их с прочитанными на прошлой неделе. Наконец, дойдя до главной улицы, мальчики останавливались под первым же тусклым фонарем и листали страницы в поисках какой-нибудь фразы (напр.: «он обладал нечеловеческой силой»), которая укрепила бы их в радостной и жадной надежде. Они быстро прощались и бежали по домам, чтобы поскорее раскрыть книгу на клеенке под керосиновой лампой. От грубого шершавого переплета приятно пахло клеем.
Уже по типу издания Жак мог судить о предстоящем наслаждении. П. и Ж. не любили крупный шрифт и большие поля, столь милые сердцу авторов и читателей с утонченным вкусом. Они предпочитали испещренные мелкими буковками страницы и теснящиеся строки, заполненные до краев словами и фразами, как большие деревенские миски, рассчитанные на истинно богатырский аппетит, из которых можно есть много и долго, не добираясь до дна. Им, не знающим ничего и жаждущим узнать все, не нужна была утонченность. Плохой слог и примитивность сюжета не имели значения, лишь бы книга была понятно написана и полна бурной жизни — только такие книги давали им необходимую порцию грез, за которыми следовал крепкий беспробудный сон.
У каждой книги имелся еще и свой запах, в зависимости от того, на какой бумаге она была напечатана, тонкий, едва уловимый, но всегда особый, и Жак мог с закрытыми глазами отличить книгу Нельсоновской библиотечки от дешевых изданий, какие выпускал в ту пору Фаскель. Еще до того как Жак успевал открыть книгу, эти запахи уносили его в другой мир, полный обещаний, уже [сбывшихся], и этот мир постепенно вытеснял столовую, где он сидел, улицу с ее шумом, сам город и весь белый свет, который полностью исчезал, как только Жак начинал читать, страстно, самозабвенно, опьяняясь чтением до такой степени, что даже бабушкины приказания не могли его оторвать[154]. «Жак, накрой на стол, третий раз тебе говорю». Он накрывал на стол, глядя вокруг пустыми, невидящими глазами, слегка затуманенными, словно чтение действовало на него как наркотик, и снова погружался в книгу, как будто и не отрывался от нее. «Жак, ешь», он ел, и эта пища, хотя и весьма плотная, казалась ему менее реальной, чем та, что давала книга, потом убирал со стола и снова читал. Иногда мать, прежде чем сесть у окна, подходила к нему. «Это из библиотеки», — говорила она. Она с трудом выговаривала это слово, которое слышала от сына, не вполне понимая, что оно значит, но отличала книги по переплету[155]. «Да», — отвечал Жак, не поднимая головы. Катрин Кормери склонялась над его плечом. Она смотрела на два белых прямоугольника, испещренных одинаковыми рядами букв, вдыхала типографский запах, а иногда даже проводила по строчкам загрубелыми от стирки пальцами, словно хотела понять, что же такое книга, прикоснуться к этим таинственным значкам, в которых ее сын находит неведомую ей жизнь, а потом, оглянувшись, смотрит на нее как на незнакомку. Узловатой рукой она тихонько гладила мальчика по голове, но он не реагировал, она вздыхала и шла к своему стулу, стоявшему далеко от него. «Жак, иди спать». Бабушке приходилось это повторять. «Ты проспишь». Жак вставал, собирал на завтра ранец, держа книгу под мышкой, и наконец засыпал, как пьяный, тяжелым сном, засунув книгу под подушку.
Так на протяжении многих лет его жизнь делилась на две неравные части, и ему никак не удавалось связать их между собой. Двенадцать часов в день он жил под звуки барабана в обществе ребят и учителей, между играми и занятиями. Оставшиеся два-три часа он проводил дома, на своей старой окраине, подле матери, с которой по-настоящему его объединял только сон. Хотя вся прежняя его жизнь прошла в этом квартале, его жизнь нынешняя и, главное, его будущее были связаны с лицеем. И постепенно образ квартала начал сливаться в его сознании с вечерними часами, мечтами и сном. Да и существовал ли он на самом деле, этот квартал, не был ли он и вправду той пустыней, какой показался однажды Жаку в минуту беспамятства? Падение на цемент… Он по-прежнему не мог в лицее никому рассказать о матери и о своей семье. Никому дома не мог рассказать о лицее. Ни один однокашник, ни один учитель за все эти годы ни разу не приходил к ним в дом. А мать и бабушка бывали в лицее только раз в году, на церемонии вручения наград в начале июля. В этот день они входили туда через парадную дверь в нарядной толпе родителей и учеников. Бабушка облачалась в выходное платье и черный платок. Катрин Кормери надевала шляпу, украшенную восковой гроздью темного винограда и коричневым тюлем, летнее коричневое платье и свои единственные туфли на каблуке. Жак в белой рубашке с короткими рукавами — штаны его, сначала короткие, потом длинные, всегда были тщательно отглажены матерью накануне — шествовал между обеими женщинами. Около часа дня он вел их к остановке красного трамвая, усаживал в первый вагон, а сам стоял на передней площадке, глядя в стекло на мать: она иногда улыбалась ему и без конца проверяла, хорошо ли сидит шляпка, не морщатся ли чулки, или поправляла на груди маленький золотой медальон с изображением мадонны. От Губернаторской площади он вел их дальше по улице Баб-Азун, где сам проходил каждый день и только раз в году — вместе с ними. От матери пахло лосьоном (ламперо), которым она щедро душилась по такому случаю; бабушка, как всегда, прямая и горделивая, отчитывала дочь, когда та жаловалась на ноги («В другой раз будешь знать, как носить в твоем возрасте тесные туфли»), а Жак всю дорогу показывал им торговцев и магазины, занимавшие столь важное место в его жизни. В лицее был открыт парадный вход и первые гости уже поднимались по центральной лестнице, сверху донизу украшенной зелеными растениями в кадках, — Кормери, естественно, приходили задолго до назначенного времени, как все бедняки, у которых мало светских обязанностей и развлечений, и они вечно боятся опоздать[156]. Гостей вели во внутренний двор старших классов, где стояли ряды стульев, взятых напрокат в каком-то концертном заведении, а в глубине возвышалась широкая эстрада, уставленная креслами и стульями и тоже украшенная огромным количеством зелени. Двор постепенно заполнялся светлыми нарядами, ибо большинство приглашенных составляли женщины. Те, кто пришел пораньше, сидели в тени, поддеревьями. Остальные обмахивались соломенными арабскими веерами с красными шерстяными помпончиками по краям. Небо наливалось тяжестью и приобретало твердость металла.