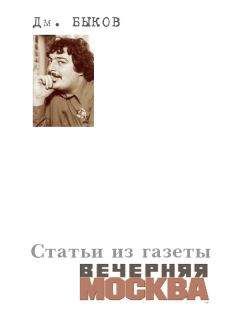Анатоль Франс - 8. Литературно-критические статьи, публицистика, речи, письма
И ради чего стал бы Рабле отдаваться в руки «дьяволов в рясах»? В нем не было такой веры, которую отстаивают на костре. Он был не в большей степени протестантом, нежели католиком, и где бы его ни сожгли, в Женеве или в Париже, все равно это было бы результатом досадного недоразумения. В сущности, — и г-н Стапфер хорошо говорит об этом, — Рабле не был ни теологом, ни философом, он не разделял ни одной из тех великолепных мыслей, которые ему позднее приписали. В нем жило высокое рвение к наукам, и пока он в свое удовольствие изучал медицину, ботанику, космографию, греческий и древнееврейский языки, он чувствовал себя вполне довольным, возносил хвалу господу и ни к кому не испытывал вражды, за исключением «дьяволов в рясах». Такая жажда знания воспламеняла в те времена самые благородные умы. Сокровища античной литературы, извлеченные из монастырской пыли, вновь увидели свет; сведущие издатели снабдили их иллюстрациями и размножили на печатных станках типографов Венеции, Базеля и Лиона. Рабле и сам опубликовал несколько греческих манускриптов. Подобно своим современникам, он восторгался всеми творениями античности подряд. Его голова походила на склад, где громоздились Вергилий, Лукиан, Теофраст, Диоскорид, авторы ранней и поздней античности. Но прежде всего он был лекарь, бродячий лекарь и предсказатель. «Гаргантюа и Пантагрюэль» занимали в его жизни не больше места, чем «Дон-Кихот» в жизни Сервантеса, и славный Рабле создал свой шедевр, сам того не ведая; это, впрочем, — удел всех шедевров. Для того чтобы создать шедевр, нужна истинная гениальность и вовсе не обязательно заранее принятое решение. В наши дни, когда существует литература и литературные нравы, мы живем, чтобы писать, если только не пишем, чтобы жить. Мы очень стараемся и, пока тщимся добиться совершенства, утрачиваем и изящество и естественность. И все же самый верный способ создать шедевр (признаю, что шансы на успех весьма невелики) состоит в том, чтобы не стремиться к этому и, не проникаясь литературным тщеславием, писать для муз и для себя. Рабле в простоте душевной создал одну из величайших книг на свете.
Он писал ее с удовольствием. У него не было никакого предварительного плана, никакой заранее обдуманной идеи. Сначала он намеревался написать продолжение одной народной книги[166], которая развлекала кумушек и слуг. Но поставленной цели Рабле не добился: то, что он готовил для простонародья, оказалось изысканным блюдом для избранных умов. Вот что способно поставить в тупик мудрецов, которые, впрочем, всегда попадают впросак.
Рабле, сам того не сознавая, был чудом своей эпохи. В век изысканности, грубости и педантизма он был, как никто другой, изыскан, груб и педантичен. Его гений сбивает с толку тех, кто ищет в нем недостатков. Так как их у Рабле множество, то резонно думают, что у него их нет вовсе. Он мудр и безумен; изыскан и тривиален; он беспрестанно путается, сам себя сбивает с толку, сам себе противоречит. Но он заставляет нас все видеть и все любить. У него необыкновенный стиль, и, хотя он нередко впадает в странные заблуждения, нет писателя выше его, писателя, который превзошел бы его в искусстве выбирать и сочетать друг с другом слова. Он пишет играючи, словно забавы ради. Он любит, он боготворит слова. До чего чудесно наблюдать, как он нанизывает их одно на другое! Он не может, не в силах остановиться. Этот владелец балагана гигантов ни в чем не знает меры. Мы встречаем у него грандиозные вереницы существительных и прилагательных. Если, к примеру, пекари вступают в спор с пастухами, то они именуют пастухов:
«беззубыми поганцами, рыжими-красными — людьми опасными, ёрниками, прощелыгами, пролазами, лежебоками, сластенами, пентюхами, бахвалами, выжигами, побирушками, задирами, шутами гороховыми, байбаками, балбесами, обормотами, пересмешниками, голодранцами…, присовокупив к этому и другие оскорбительные названия».
И, заметьте, я еще не все перечислил. Порою его приводит в восторг и увлекает звучание слов, подобно тому как мула увлекает и манит вперед звон бубенчиков.
Рабле нравятся ребяческие аллитерации: «И звуки моей не знающей соперниц сопелочки сопение сопунов заглушат».
Он, такой великолепный знаток родного языка, чья речь проникнута запахом отчей земли, внезапно начинает примешивать к французской речи греческий и латынь, как тот лимузинский школяр, которого он сам высмеял, быть может, втайне восхищаясь им: ведь одна из характерных черт этого великого насмешника — с нежностью относиться к тому, над чем он потешается. И вот он именует распаленного пса «lycisque orgoose», а кривую кобылу «esgue orbe». Насколько мне известно, наши символисты, г-н де Ренье и сам г-н Жан Мореас, не придумывали выражений более редкостных. Но славный Рабле делает это так весело и так просто, что можно лишь позабавиться вместе с ним. В счастливые минуты вдохновения стиль его достигает необычайного великолепия и очарования. Попытайтесь привести более восхитительную фразу, чем фраза, что взята мною наудачу из третьей книги и толкует о том, какой политики следует придерживаться в отношении недавно покоренных народов!
«Словно новорожденного младенца, народ должно поить молоком, нянчить, занимать. Словно вновь посаженное деревцо, его должно подпирать, укреплять, охранять от всяких бурь, ненастий и повреждений. Словно человека, оправившегося от продолжительной и тяжелой болезни и постепенно выздоравливающего, его должно лелеять, беречь, подкреплять…»
Вы скажете, что фраза проста? Да, ее можно сравнить с Переттой в коротенькой юбке[167]. Но есть ли что-нибудь более бодрое, чем причитания Гаргантюа, оплакивающего смерть своей супруги Бадбек? Ибо Рабле — это сама природа. Смерть не может омрачить живущей в нем великой радости.
«Моя жена умерла. Ну, что ж, ей-богу, слезами горю не поможешь. Ей теперь хорошо. Она уж верно попала в рай, а то и еще куда-нибудь получше, она молит за нас бога, она блаженствует, она далеко от наших горестей и невзгод. А то как бы и мне вслед за ней не отправиться на тот свет. Сохрани, господи, и помилуй! Мне пора подумать о том, где бы найти другую».
А вот, в заключение, рассказ о злосчастном событии, которое положило предел земному существованию священника Пошеям. Никогда искусство рассказчика не достигнет большей высоты!
«Кобыла в ужасе припустилась рысью, затрещала, заскакала, понеслась галопом, начала брыкаться, на дыбы взвиваться, из стороны в сторону метаться, взрываться и наконец, как ни цеплялся Пошеям за луку седла, сбросила его наземь. Стремена у него были веревочные; правую его сандалию так прочно опутали эти веревки, что он никак не мог ее высвободить. Кобыла поволокла его задом по земле, продолжая взбрасывать всеми четырьмя ногами и со страху перемахивая через изгороди, кусты и канавы. Дело кончилось тем, что она размозжила ему голову, и у осанного креста из головы вывалился мозг; потом оторвала ему руки, и они разлетелись одна туда, а другая сюда, потом оторвала ноги, потом выпустила ему кишки, и когда она примчалась в монастырь, то на ней висела лишь его правая нога в запутавшейся сандалии» (Книга Четвертая, глава 13).
До чего же это великолепно сказано! И какая непобедимая жизнерадостность пронизывает эту жестокую сцену смерти, сама гиперболичность которой разрушает чувство ужаса. Воздадим же вместе с г-ном Стапфером дань восхищения и любви «ученому и любезному Рабле» и простим писателю его шутки священника, ибо в главном он был добр и благостен.
КИТАЙСКИЕ СКАЗКИ{12}[168]
Признаюсь, я мало сведущ в китайской литературе. В дни моей юности, когда еще здравствовал господин Гильом Потье, я был немного знаком с этим ученым, знавшим китайский язык лучше французского. Сам не знаю, каким образом, но от этого у него стали раскосые глазки и татарские усы. Я слышал от него, что Конфуций был гораздо более великим философом, чем Платон; но я ему не поверил. Конфуций никаких нравоучительных басен не рассказывал и никаких метафизических романов не сочинял.
Этот желтолицый старец был лишен всякого воображения, следственно, и склонности к философии. Зато он обладал здравым смыслом. Когда ученик его Ци Лу спросил однажды, как должно служить Духам и Гениям, учитель ответил:
— Ежели человек еще не в состоянии служить человечеству, как может он служить Духам и Гениям?
— Позвольте мне, — снова обратился к нему ученик, — спросить у вас, что такое смерть?
И Конфуций ответил:
— Ежели мы не ведаем, что есть жизнь, как можем мы постигнуть смерть?
Вот и все, что касательно Конфуция я почерпнул из бесед с господином Гильомом Потье, который в те годы, когда я имел честь с ним встречаться, с особым тщанием изучал труды китайских агрономов, являющихся, как известно, лучшими агрономами в мире. Господин Гильом Потье посеял ананасы в департаменте Сены-и-Уазы, соблюдая все их правила. Ананасы не взошли. Вот и все о философии. Что же до литературы, то я, как и все, читал рассказы, переведенные в разные времена Абелем Ремюза, Гийяром д'Арси, Станиславом Жюльеном и многими другими учеными, имена которых я не помню. Да простят они мне вину мою, если ученый вообще способен простить что-либо. По этим рассказам, где проза перемешана со стихами, у меня создалось представление об ужасающе жестоком и исполненном учтивости народе.