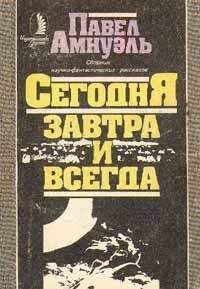Франц Кафка - Замок
Напряженно, сжав губы, слушал ее К.; дрова под ним разъехались, он почти сполз на пол, но не замечал этого, только теперь он встал, сел на ступеньку возвышения, взял руку Фриды, которая слабо попыталась высвободиться, и сказал:
— В этом рассказе я не везде мог различить твое мнение и мнение хозяйки.
— Это было только мнение хозяйки, — сказала Фрида. — Я все выслушала, потому что я хозяйку уважаю, но в первый раз в моей жизни я ее мнение целиком и полностью отбросила. Мне казалось таким жалким все, что она говорила, таким далеким от какого-то понимания наших с тобой отношений. Мне скорее казалось правильным как раз противоположное тому, что она говорила. Я вспоминала то хмурое утро после нашей первой ночи, как ты стоял рядом со мной на коленях с таким видом, будто все уже потеряно. И как потом и в самом деле так складывалось, что я, как я ни старалась, не помогала, а мешала тебе. Из-за меня хозяйка стала твоим врагом, могущественным врагом, которого ты все еще недооцениваешь; ради меня, из-за которой у тебя было столько забот, тебе пришлось бороться за свое место, ты оказался в невыгодном положении перед старостой общины, должен был подчиниться учителю, был отдан в руки помощников, но самое худшее: из-за меня ты, может быть, провинился перед Кламмом. То, что ты все это время хотел добраться до Кламма, было ведь только бессознательным стремлением как-нибудь с ним помириться. И я сказала себе, что хозяйка, которая все это, конечно, понимает куда лучше, чем я, своими нашептываниями просто хочет уберечь меня от слишком жестоких упреков самой себе. Напрасные старания, хоть она и желала добра. Моя любовь к тебе помогла бы мне преодолеть все, она бы в конце концов и тебя тоже продвинула — если не здесь, в деревне, то где-нибудь еще, одно доказательство своей силы она ведь уже дала: она спасла тебя от Барнабасовой семьи.
— Значит, тогда у тебя было такое, противоположное, мнение, — сказал К., — и что же изменилось с тех пор?
— Я не знаю, — ответила Фрида и взглянула на руку К., которая держала ее руку, — может быть, ничего не изменилось; когда ты так близко от меня и так спокойно спрашиваешь, я верю, что ничего не изменилось. Но в действительности… — она отняла у К. руку, села прямо против него и заплакала, не закрывая лица; ее залитое слезами лицо было открыто и обращено к нему так, словно она плакала не о себе самой (и поэтому ничего не должна была скрывать), а плакала о предательстве К. и потому он заслужил еще и это наказание: видеть ее лицо, — но в действительности все изменилось после того, как мне пришлось выслушать твой разговор с этим мальчиком. Как невинно ты начал, спросил, как дома, как то, как се, мне чудилось, будто в этот момент ты входишь в пивную — такой доверчивый, наивный, и так по-детски жадно ловишь мой взгляд. Не было никакой разницы с тем, как было тогда, и я только желала, чтобы хозяйка была здесь, послушала тебя — и попробовала бы оставаться при своем мнении. Но потом вдруг — не знаю, как это произошло, — я догадалась, с каким умыслом ты разговариваешь с этим мальчиком. Своими участливыми словами ты завоевал его доверие, — а его нелегко завоевать, — чтобы потом без помех устремиться к цели, которую я все лучше и лучше понимала. Твоей целью была эта женщина. Сквозь кажущуюся заботу о ней из твоих слов совершенно неприкрыто выступал только интерес к собственным делам. Ты предавал эту женщину еще до того, как завоевал ее. Не только мое прошлое, но и мое будущее слышала я в твоих словах; мне чудилось, будто это хозяйка сидит рядом со мной и все мне объясняет, а я изо всех сил пытаюсь прогнать ее, но ясно вижу безнадежность этих стараний; и ведь предана была, собственно, даже не я (да я и не была еще предана), а посторонняя женщина. И когда я потом собралась с силами и спросила Ганса, кем он хочет стать, и он сказал, что хочет стать таким, как ты, то есть он уже весь принадлежал тебе, то разве такая уж большая тут разница между ним, этим добрым мальчиком, которым воспользовались сейчас, и мной — тогда?
— Все, — сказал К., привычный упрек помог ему взять себя в руки, — все, что ты говоришь, в известном смысле правильно; это не лживо, нет, это только враждебно. Это мысли хозяйки, моего врага, даже когда ты считаешь, что они — твои собственные, и это меня утешает. Мысли, кстати, поучительные, у этой хозяйки еще многому можно поучиться. Мне самому она их не высказала, хотя в остальном меня не пощадила; она доверила это оружие тебе, очевидно, в надежде, что ты применишь его в особенно тяжелый или ответственный для меня час. Если я воспользовался тобой, то и она воспользовалась тобой аналогично. Но теперь подумай, Фрида: даже если бы все было в точности так, как говорит хозяйка, это было бы очень скверно только в одном случае, а именно: если бы ты не любила меня. Тогда, только тогда это было бы действительно так, — что я завоевал тебя хитростью и расчетом, чтобы нажиться на этом приобретении. Тогда, может быть, в мой план входило даже то, что я в тот раз, чтобы вызвать твое сочувствие, появился перед тобой рука об руку с Ольгой, и хозяйка просто забыла упомянуть еще и это в списке моих прегрешений. Но если это не тот скверный случай и не какой-то коварный хищник похитил тебя, а ты шла мне навстречу так же, как я шел навстречу тебе, и мы нашли друг друга, и забыли себя оба, то скажи, Фрида, как — тогда? Тогда ведь я веду не только мое дело, но и твое тоже, тогда тут нет разницы и разделять тут может только мой враг. Это справедливо во всем, в отношении Ганса — тоже. Кстати, в оценке разговора с Гансом, ты со своей деликатностью очень перехватила, потому что если намерения Ганса и не вполне совпадают с моими, то все же не настолько, чтобы между ними была чуть ли не какая-то противоположность; кроме того, ведь наши с Гансом разногласия не остались для него тайной, решив так, ты бы сильно недооценила этого дальновидного маленького человечка — и даже если все осталось для него тайной, то и тогда никому от этого вреда, я надеюсь, не будет.
— Так трудно во всем этом разобраться, К., — сказала Фрида и вздохнула. — Конечно, никакого недоверия к тебе у меня не было, и если бы что-то такое передалось мне от хозяйки, я была бы счастлива это отбросить и на коленях просить у тебя прощения, что я, собственно, и делаю все это время, даже если и говорю такие злые слова. Но ведь это правда, что ты многое делаешь тайком от меня; ты приходишь и уходишь — я не знаю, откуда и куда. Сегодня, когда постучал Ганс, ты даже произнес это имя: «Барнабас». Хоть бы один раз ты мое произнес с такой любовью, как произносил сегодня — по непонятной для меня причине — это ненавистное имя. Если у тебя нет ко мне доверия, то как же тогда не возникнуть недоверию и у меня — я ведь тогда полностью отдана хозяйке, правоту которой ты своим поведением, кажется, подтверждаешь. Не во всем, я не собираюсь утверждать, что ты ее во всем подтверждаешь; ведь как бы там ни было, все-таки из-за меня же ты прогнал помощников? Ах, если бы ты знал, как жадно я во всем, что ты делаешь и говоришь, даже когда мне это мучительно, ищу какой-то добрый для меня смысл.
— Во-первых, Фрида, — сказал К., — я даже самой последней мелочи от тебя не скрываю. Как же ненавидит меня эта хозяйка, как старается тебя у меня отнять, и какими презренными средствами она пользуется, и как ты ей поддаешься, Фрида, как ты ей поддаешься! Ну скажи, что я от тебя скрываю? Что я хочу добраться до Кламма, ты знаешь, что ты не можешь мне в этом посодействовать и что я поэтому должен добиваться этого сам, как могу, ты тоже знаешь, что это мне пока еще не удалось, ты видишь. Ну что, я должен еще вдвойне унижать себя рассказами о моих безрезультатных попытках, которые сами по себе уже достаточно меня унижают? Я должен, может быть, хвастаться тем, что я целый вечер мерз возле дверцы Кламмовых саней, напрасно дожидаясь его? Счастливый, что могу больше не думать о таких вещах, я спешу к тебе — и вот теперь уже и с твоей стороны все это снова надвигается на меня. Барнабас? Разумеется, я жду его. Он — посыльный Кламма, не я же его назначил.
— Опять Барнабас! — воскликнула Фрида. — Я не могу поверить, что он хороший посыльный.
— Возможно, ты права, — согласился К., — но он — единственный посыльный, которого мне прислали.
— Тем хуже, — сказала Фрида, — тем больше ты должен был его остерегаться.
— К сожалению, он пока не дал мне никакого повода для этого, — заметил К., усмехаясь. — Приходит он редко, и то, что он приносит, несущественно; ценно только то, что это исходит непосредственно от Кламма.
— Но послушай, — сказала Фрида, — ведь твоя цель — уже даже не Кламм; может быть, это меня беспокоит больше всего. То, что ты все время, не обращая внимания на меня, рвался к Кламму, было плохо, но то, что ты теперь, кажется, уклоняешься от Кламма, — намного хуже, это уже что-то такое, чего даже хозяйка не предвидела. По ее словам, мое счастье — сомнительное и все же очень настоящее счастье — кончится в тот день, когда ты окончательно поймешь, что твоя надежда на Кламма была напрасна. Но теперь ты даже не ждешь этого дня; вдруг входит какой-то маленький мальчик, и ты начинаешь с ним драться за его мать так, будто борешься за глоток воздуха.