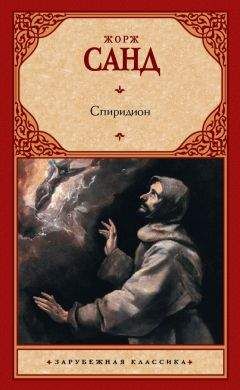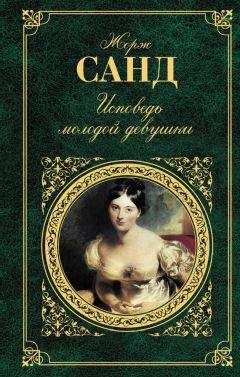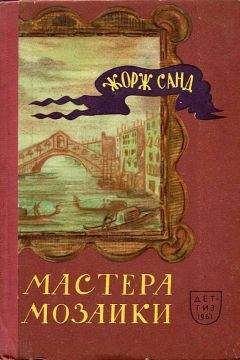Жорж Санд - Спиридион
Мало-помалу мельчайшие перемены в жизни природы наполнились для меня глубоким смыслом. Отдаваясь своим впечатлениям с тем простодушием, на какое способны лишь люди, испившие чашу уныния до дна, я нечувствительно раздвигал узкие рамки достоверного до более широких рамок возможного, а вскоре возможное, воспринятое любящим сердцем, открыло мне еще более широкие горизонты – те, каких разум мой не дерзал даже вообразить. Во всем, что прежде казалось мне достоянием слепого рока, я находил теперь следы таинственного промысла. Мне открылся смысл счастья, который я так бездарно позабыл. Прежде я размышлял только о страданиях живых существ, теперь я обратил свой взор на их радости и поразился тому, как равномерно распределены среди смертных те и другие. Все живые существа, обретя новый облик и новый голос, поведали мне секреты, о каких холодное и поверхностное наблюдение, принимавшееся мною за науку, не могло дать мне ни малейшего понятия. Природа развернула передо мною список бесконечных тайн и опровергла скороспелые суждения людей полуобразованных. Одним словом, жизнь обрела в моих глазах священный характер и великую цель, какой не могли сообщить ей ни религия, ни наука и о какой мой заблудший ум смог узнать лишь от моего прозревшего сердца.
Однажды вечером я вслушивался в рокот морских волн, лениво набегающих на песчаный берег; я пытался понять, отчего через равные промежутки времени море, словно следуя какой-то вечной мелодии, посылает на сушу три волны выше и сильнее остальных; тут до меня донесся голос рыбака, который, растянувшись на корме лодки, обращал свою песню к звездам. Конечно, мне и прежде не раз доводилось слышать пение рыбаков – и этого певца, возможно, ничуть не реже других. Слух мой, однако, оставался невосприимчив к музыке, а мозг – к поэзии. Народные песни казались мне выражением одних лишь грубых страстей, и я от всей души презирал их. В тот вечер я, как обычно, испытал раздражение при звуках голоса, который заглушал шепот волн и мешал мне размышлять о них. Однако спустя несколько мгновений я заметил, что рыбак невольно следует в своей песне ритму морских волн, и подумал, что, возможно, слышу одного из тех великих, истинных художников, воспитанием которых занимается сама природа и которые по большей части живут и умирают в безвестности. Поскольку догадка эта вполне соответствовала обычному ходу моих тогдашних размышлений, я стал терпеливо слушать полудикое пение этого полудикого музыканта, который неспешно и печально восхвалял тайны ночи и ласки ветра. В стихах его было мало рифм и мало складу, в словах – мало смысла и еще меньше поэзии, однако колдовская прелесть его голоса, простодушное обаяние ритма и удивительная красота напева, печального, тягучего и монотонного, словно мелодия моря, поразили меня так сильно, что внезапно мне открылось самое существо музыки. Мне показалось, что музыка – это и есть истинный поэтический язык человека, не зависящий ни от слов, ни от писаной поэзии, подчиняющийся особой логике и способный выражать идеи самые возвышенные и столь грандиозные, что никакой иной язык передать их не в силах. Я решился заняться музицированием, чтобы проверить это предположение, и в самом деле, как ты, возможно, слышал, добился на этом поприще некоторых успехов. Лишь одно смущало меня: в прежние годы я заплатил слишком большую дань логике, чтобы безболезненно отринуть ее теперь. Оттого мне так и не удалось научиться сочинять музыку самому, а ведь мечтал я именно об этом. Убедившись, что я не способен выразить свои мысли на этом языке, по всей вероятности чересчур возвышенном для меня, я обратился к поэзии и стал сочинять стихи. Результат получился столь же неутешительный: я страстно хотел говорить стихами, но мало заботился об их источнике, а между тем поэзия нуждается в источнике, в сильном и глубоком чувстве, которое бы ее питало; понятия об этом чувстве я имел лишь самые смутные, и потому поэзия моя была несовершенна.
Недовольный своими стихами, я перешел к прозе, которой силился придать вид как можно более лирический. Единственный предмет, который я мог описать со знанием дела, была моя собственная печаль и те муки, какие я претерпел, ища истину. Вот образчик моего творчества:
«О величие мое! О моя сила! Грозовой тучей нависли вы над землей, огненной молнией пали на нее. Смертью и бесплодием поразили вы все плоды и цветы на поле моем. Обратили вы его в унылую пустыню, и воссел я один среди развалин. О величие мое! О моя сила! Добрую службу сослужили вы мне или злую?
О гордыня моя! О моя наука! Жгучим вихрем взметнулись вы, точно самум в пустыне. Под песком и пылью погребли вы пальмы, замутили и иссушили водоемы. Искал я родник, чтоб напиться, и не нашел родника; не помнит безумец, возмечтавший о надменных вершинах Хорива, укромного пути к тенистому ручью. О наука моя! О моя гордыня! Бог ли послал вас мне или дьявол?
О добродетель моя! О мое воздержание! Встали вы, точно башни, протянулись, точно стены мраморные, выросли, точно медные щиты. Скрыли вы меня под ледяными сводами, погребли в мрачных склепах, где царят тревога и страх; жестко и холодно было мне спать, и часто грезил я о теплом небе и мирах изобильных. Искал я солнечный свет, но света не нашел, ибо во тьме потерял я зрение, и отказали мне ноги, и не дошел я до края бездны. О добродетель моя! О мое воздержание! Гордыня ли питала вас или вдохновляла мудрость?
О вера моя! О моя надежда! Утлым, ненадежным челном обернулись вы для меня, и носился я по безбрежным морям, среди лживых туманов и пустых иллюзий, смутных образов неведомого отечества. Когда же, устав сражаться с ветром и стенать под его порывами, спросил я, куда вы ведете меня, тогда зажгли вы огни на скалах, и узнал я, чего мне бежать, но не узнал, к чему стремиться. О вера моя! О моя надежда! Кто внушил вас – грезы безумия или таинственный голос Бога живого?»
Все эти невинные занятия возвратили покой моей душе и бодрость моему телу; однако ровное течение моей жизни было прервано новым, нежданным бедствием. На смену заразной болезни, обрушившейся на монастырь и его окрестности, пришла чума, поразившая весь наш край. У меня имелись некоторые соображения относительно способов предотвратить эпидемические заболевания посредством весьма простых гигиенических мер. Особам, с которыми я поделился этими соображениями, они сослужили добрую службу, и потому я прослыл человеком, знающим лекарство от чумы. Отказываясь от репутации столь лестной, я, однако же, охотно обнародовал свои скромные открытия. Тогда страждущие потянулись ко мне со всех сторон, и вскоре у меня уже едва хватало времени и сил на то, чтобы принять всех желающих; более того, в виде исключения настоятелю пришлось даже разрешить мне покидать монастырь в любое время суток и отправляться к больным. Однако чем больше жертв уносила чума, тем меньшее место занимали в душах монахов благочестие и сострадание, поначалу заставлявшие их держаться милосердно и человеколюбиво. Эгоистичный, подлый страх вытеснил из их сердец все добрые чувства. Мне запретили иметь сношения с больными чумой; двери монастыря закрылись для несчастных, нуждающихся в помощи. Я не мог скрыть от настоятеля своего возмущения. В другие времена он заточил бы меня в темницу, но в ту пору страх смерти до такой степени ослабил его дух и волю, что он выслушал меня с величайшим спокойствием и предложил мне поселиться в двух лье отсюда, в пустыни Святого Гиацинта, и жить в обществе тамошнего отшельника до тех пор, пока эпидемия не прекратится и возвращение мое в монастырь не перестанет грозить опасностью нашим братьям. Оставалось узнать, согласится ли отшельник делить хлеб и кров с новоявленным лекарем. Получив разрешение побывать в пустыни и поговорить с ее обитателем, я немедля отправился в путь. Я мало надеялся услышать благосклонный ответ: отшельник, раз в месяц приходивший к воротам монастыря просить милостыню, никогда не внушал мне симпатии. Хотя благочестивые простецы не оставляли его в нужде, он обязан был во исполнение своих обетов, не столько ради пропитания, сколько для смирения собственной гордыни, регулярно просить милостыню. У меня обычай этот вызывал величайшее презрение; угрюмый, молчаливый отшельник с его вытянутым лицом и блеклыми, глубоко посаженными глазами, которые, казалось, не выносили солнечного света, с его сгорбленной спиной, седой бородой, пожелтевшей от непогоды, и тощей длинной рукой, которую он протягивал скорее настоятельно, нежели смиренно, сделался для меня воплощением фанатизма и лицемерной гордыни.
Поднявшись на гору, я взглянул на море; вид его пленил меня. Сверху оно казалось огромной лазурной равниной, резко кренящейся к громадным береговым скалам; волны его, в эту пору пребывавшие в относительном спокойствии, напоминали ровные борозды, проведенные плугом. Эта голубая бездна, вздымавшаяся подобно холму и представлявшаяся твердой и плотной, словно исполинский сапфир, привела меня в такой головокружительный восторг, что, борясь со страстным желанием броситься вниз, я был вынужден ухватиться за ветки ближайшего масличного дерева. Мне чудилось, что при виде этого великолепия тело должно обрести силу духа и обнаружить умение летать. Я вспомнил тогда Иисуса, идущего по воде, и стал думать об этом божественном человеке, великом, как горы, сияющем, как солнце. «Кто бы ты ни был, метафизическая аллегория или греза восторженной души, – воскликнул я, – в тебе есть величие и поэзия, какой нет во всех наших достоверных фактах и логических рассуждениях, во всех наших замерах и подсчетах!..»