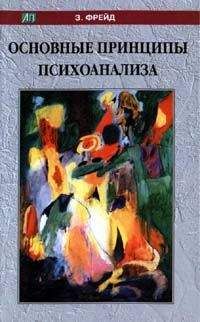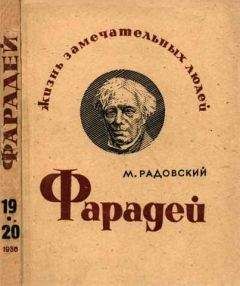Моисей Кульбак - Зелменяне
— Перестань, — сказал он в сердцах, — перестань, Хая, не то я тебя брошу…
— Ой, несчастье мое!
— У меня есть девушка Лэйча, — выпалил он, покраснел, как рак, и от страшного стыда за собственные слова уткнулся глазами в пол. Десять лет он берег это имя, лелеял его втайне от самого себя и теперь вдруг брякнул, как какой-то ненормальный, в лицо своей собственной жене.
Бера сидел красный как рак и прислушивался к тихому плачу Хаеле, уткнувшейся в подушку.
Лунная ночь
Ночью снова взошла луна. Метелица прекратилась. Луна выплыла из-под мягких, перистых облаков, которые вдали как бы светились собственным светом.
Домишки дремали, отбрасывая короткие тени на голубоватый снег. Кое-где виднелись грязные пятна — следы, оставленные завирухой. Двор крепко спал и, наверное, видел уже десятый сон.
В это время один только взбалмошный Цалка вертелся среди лунных домов. Быть может, он здесь блуждает, скорбя о своем отце, благороднейшем из Зелменовых?
Несколько раз Цалка подходил к дому дяди Зиши, поднимался даже на крылечко и каждый раз возвращался.
Слышно было, как луна плывет по небу.
Наконец он поднялся на крыльцо, нажал на щеколду и вошел в дом.
В первой комнате спит тетя. Здесь пахнет молитвенниками и курами. Цалел нащупывает в темноте дорогу к стеклянной двери, ведущей в Тонькину комнату.
У Тоньки в комнате тихо. Прозрачно-серо. На полу лежит немного лунного света. У стены в кровати спит она, Тонька. Спит беспокойно. Смуглые плечи выглядывают из-под одеяла. На теплых плечах светятся белые кружевца рубашки.
Цалел трепещет, руки его трясутся; ему больно, что он должен пробираться к своей возлюбленной ночью, как вор. На полу лежит немного лунного света. Он осторожно ступает, подходит к ее кровати, нагибается и тихо целует ее.
Тонька спит беспокойно.
Он сдерживает дыхание, пятится к двери, у него страшно стучит в висках, он взволнованно бормочет:
О мама, сын твой болен,
Его печален взгляд…
Тетя Гита слышит стук двери. Ветер прогуливается по комнате. Она поднимает с постели свое долговязое, как у пугала, тело и спрашивает темноту своим мужским голосом:
— Зиша? Это ты, Зиша?
Но Зиши нет. Дядя, должно быть, умер бесповоротно и больше уже не бродит зимними ночами.
Только Цалел дяди Юды блуждает по тихому, лунному двору. Парень, наверное, спятил от луны и снега. Тихая ночь. Луна светит голубоватым, притушенным светом. Дома держат свои короткие тени возле себя. Цалел дяди Юды стоит с запрокинутой головой, раскачивается и плачущим голосом не то декламирует, не то поет:
О мама, сын твой болен,
Его печален взгляд.
О мертвой Гретхен мысли
Душу его бередят.
Ты исцели мне душу, —
Готов я от зари
И до глубокой ночи
Славить тебя, Мари.
Тетя Гита спустя несколько дней рассказывала приятельницам под большим секретом, что она видела своими глазами, как Цалел дяди Юды, который, кроме всего прочего, высокообразованный молодой человек, стоял среди ночи один во дворе с молитвенником в руке и читал молитву во славу новолуния.
— Поверьте мне, — сказала она, — уж я как-нибудь не ошибусь!
Насчет молитвенника тетя Гита все же ошиблась. Но женщины решили, что с еврейской верой дело обстоит не так уж плохо, и тетя Неха — главная среди них — приложила при этом палец к губам, давая этим понять, что о достойном поступке Цалела лучше не распространяться.
О Соне дяди Зиши и о тете Гите
С Соней дело обстоит так.
От работы ее уже освободили, и, кажется, она теперь даже не член профсоюза. Она сидит дома, и ей всегда немного холодно: видно, тетя Гита подбавила в реб-зелменовский род стынущей раввинской крови. Соня вечно больна, — должно быть, дядя Зиша оставил ей в наследство свои весьма разнообразные болезни.
И все же говорят, что Соня дяди Зиши притворяется больной перед своим мужем.
Доказательства следующие.
Когда он смотрит, она не ест, только пьет чай с молоком и по временам грустненько вздыхает, что должно означать, что где-то в ней сидит боль, но поскольку она привыкла нести свой крест, то вот только вздыхает.
Известно, что эти таинственные короткие вздохи предназначены только для Павла Ольшевского. Эти вздохи такие неопределенные, что ему трудно оказать ей немедленную помощь.
Он теряется.
А Соня дяди Зиши как ни в чем не бывало тут же готовит для него следующий вздох, еще более насыщенный.
Зато, когда дома никого нет, она слезает с кровати, пудрится у зеркальца, возится с ногтями, оправляет всякие свои дела, а потом, как только постучат в дверь, она уже лежит в кровати и снова больна.
Соня дяди Зиши давно не живет в реб-зелменовском дворе. Она перебралась в город еще при жизни отца. Теперь она живет на Советской улице, занимает комнату на втором этаже.
Если вечером проходишь по улице мимо окна с красивыми гардинами и свет из-под оранжевого абажура падает на тротуар, надо непременно остановиться и понюхать воздух: если пахнет лекарствами, значит, здесь живет она.
Запах лекарства — это от дяди Зиши. Он перегнал терпкий зелменовский запах сена в более слабый и оказал этим услугу своей дочери.
Соня дяди Зиши нюхает из пузырьков, натирает виски белыми камушками, пьет капельки йода с водой — делает все то, что делает в далеком городе та графиня Кондратьева, которая в реб-зелменовском дворе кажется сном, поблекшей царицей Савской, покрытой тринадцатью таинственными покрывалами.
В последнюю зиму Соня дяди Зиши вообще не выходила из дому. В лучшем случае она не лежала, а сидела на кушетке, закутанная в платок, с раскрытой книжкой на коленях, и жаловалась молодой вузовке Сташко:
— Что плохого в том, что я во всем люблю культуру?.. Ну а если я не могу терпеть грязи под ногтями?
Соня дяди Зиши перестала даже глядеть в окно, потому что вид улицы ей тоже не нравится. Впрочем, она занята: она всегда то переставляет мебель в комнате, то занавешивает окна, то перевешивает картины на стенах. А когда Павлюк приходит с работы, она уже лежит, утомленная, в постели.
Соня слаба и больна. У нее едва хватает сил сообщить ему последние новости.
— Ты слышал? Бера уже больше не милиционер.
— Да ну?
— Этот парень напился, — говорит она, — и упустил вора.
Павлюк сидит у края стола и ест с тарелочки что-то холодное. Он ест с закрытым ртом, что означает одно из двух: не то ему жалко крошки, которая может вывалиться изо рта, не то он боится чавканьем причинить беспокойство своей больной супруге.
И вот он ест, а она сообщает ему все квартирные новости.
Оказывается, в коридоре, здесь, у них под носом, творится что-то невообразимое. Женщины имеют чуть ли не по нескольку мужей.
Если Павлюк после всего этого остается спокойно сидеть и продолжает жевать холодную еду, Соня вынимает из-под подушки письмо, которое некий Гончик, мужчина из Москвы, пишет одной женщине из их коридора о каком-то лете, проведенном в Сочи.
Так что дело ясно.
Затем она вынимает из-под подушки, уже с другой стороны, почтовое извещение на восемнадцать рублей на имя вузовки Сташко, которая живет в этом же коридоре.
Дело опять-таки ясно.
Но Павлюк все еще остается равнодушным к ее открытиям. Тогда она, в наказание ему, легонько вздыхает одним из своих таинственных вздохов, собирает корреспонденцию и протягивает ему:
— Будь любезен, выбрось это обратно в коридор!
Павлюк молчит. И хотя, видно, ему не очень по душе, что жена перехватывает письма к соседям, он не подает виду, открывает дверь и как ни в чем не бывало кладет письма на место. Этим он дает понять Соне, что смотрит на это дело сквозь пальцы.
— Вот глупости…
Вечером падает на стол мягкий свет оранжевого абажура. В комнате тихо и как-то особенно уютно. Соня уже встала с кровати, она напудренная и надушенная, от нее чуть слышно пахнет сеном с примесью йода.
Вокруг стола уже собрались постоянные друзья дома.
Сидит пухленький профессор Довнар-Глембоцкий, который, после систематических выпадов против него со стороны студентов, был наконец освобожден от чтения лекций.
Сидит какой-то старый, отслуживший актер с женой. А иногда заходит белокурый, необычайно высокий белорусский учитель.
И вот сидят они, значит, за уютным столом и играют в картишки.
Соня увлечена игрой, она жульничает. И надо же, чтобы ее партнершей оказалась жена актера, с которой у Сони не может быть ничего общего, поскольку та, как говорят, из прислуг или еще того хуже!
Понятно, что из-за одного этого отношения между ними довольно холодные. Не говоря уже о том, что Соня вообще не любит женщин, пусть даже не прислуг. Она давно затаила в душе обиду на Павлюка: как это он до сих пор не устроил так, чтобы существовали только мужчины, а среди них лишь одна особа женского пола — Соня дяди Зиши!