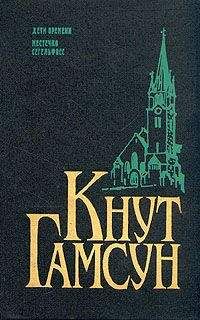Кнут Гамсун - Местечко Сегельфосс
Такова была статья адвоката Раша.
В общем и целом – нападение на Теодора из Буа, человека, привлекшего сценическое искусство в город и давшего ему приют! А как же принял это Теодор? Он защищался в своей лавке, оправдывался, как и подобало ловкому парню, каким он был, следил, когда лавка бывала полна народа, и отвечал на месте. Разумеется, он был немножко молчалив и пришиблен в первые дни, но тем сильнее отыгрывался впоследствии. «А кто такой сам Раш? Заевшийся адвокат!» – говорил он. Больше всего его обидело, что в статье он был назван мелочным торговцем. «Я знаю торговцев и поменьше нашей фирмы, и то их называют купцами», – говорил Теодор из Буа.
А тут еще, пожалуй, вообразят, что он стеснен в деньгах: он еще не получил расчета за свою треску, а пришлось заплатить за весенние товары, – десять больших ящиков мануфактуры, – да еще построил театр. Но Теодор не сидел без денег. В один прекрасный вечер, когда было много покупателей, он вышел из своей конторы, помахивая кредитным билетом, а начальник телеграфа Борсен как раз стоял в лавке и опять покупал на несколько шиллингов табаку. Теодор обратился во всеуслышание к Борсену:
– Видали вы новые бумажки в тысячу крон?
– Я слыхал про бумажку в тысячу крон, – ответил Борсен, – я даже слыхал, как о них говорили с уважением. Но сам не видал.
– Так вот посмотрите! – сказал Теодор.
Впрочем, это была не такая уж новая бумажка, но с ней обращались аккуратно, и она могла сойти за новую. И что за черт этот Теодор, наверно он заставил свою мать пройти по бумажке утюгом и подновить ее для показа! Другого такого, как он, конечно, не сыскать! Это подумали все, бывшие там и видевшие бумажку собственными глазами.
Чего же ради хлопотал и трудился Теодор из Буа? Какова была его цель? Он не был скуп, как его отец, и не прятал деньги в стенные щели. Разумеется, ему хотелось сделаться большим человеком, большим дельцом. Ведь вот, получил же он агентуру «госенского» маргарина на всю область, вплоть до Тромсэ! А ведь это все равно, что генеральная агентура, и все торговцы из северных местностей должны были обращаться к Теодору из Буа за «госенским маслом» из местности Госен, где имелись хорошие пастбища! Фабрика прислала сверкающие рекламы, плакаты, и яркие цвета их украсили фасад лавки и превратили ее в некоторое подобие рая на земле.
Так что же, Теодор-лавочник был доволен?
Наступали вечера, наступали ночи. Теодор искал уединения и мечтал. Те дни, когда они еще не конфирмовались и катались на салазках, были, пожалуй, счастливейшей его порой; правда, с тех пор он возвысился от нуля до кое– какой величины, но она ушла от него. Он помнит последний раз, когда он вез домой ее санки, а она была уж совсем большая девочка. «Спасибо, поставь санки здесь!» – сказала она. Дверь распахнулась и захлопнулась. Это было в последний раз. А теперь прошли годы, он уже не мог нарисовать ей картинку, не мог сочинить песенку, он был беспомощен. Сделавшись богатым купцом, он часто думал поднести ей в подарок что-нибудь ценное из того, что получал для лавки; но с шалью из чистой шерсти вышла незадача, она вернула ее с вопросом, что это значит. Однако Теодор вывернулся: он торговец, ему хотелось распространить эти прекрасные шали в Сегельфоссе, а скорее всего это сделалось бы, если бы именно она первая стала носить такую шаль. Она ответила: «Да, спасибо, но она еще не так стара и не так основательно замужем, чтоб носить шали! Посредницей в этом деле была одна из ее горничных».
После этого афронта Теодор был бы дураком, если б продолжал посылать подарки. Теодор – дурак? Ни в коем случае. Но и по сию пору он откладывал в сторонку какую-нибудь особенно изящную вещицу и мечтал, что пошлет ее в папиросной бумажке, и только уж после того, как она полежит порядочно времени, он приказывал приказчикам пустить ее в продажу. Такова была чувствительная и смиренная любовь Теодора из Буа.
Наконец, он вообразил, что нашел деликатную форму внимания: когда будет театр, он станет изредка посылать ей билет, – да без этой задней мысли он, пожалуй, и не взялся бы за дело и не стал бы строить театр. Так вот и тут опять не вышло! Полдюжины билетов на торжественное открытие – ладно, куда ни шло! Но если на этом всему конец, так ему мало пользы: если же, наоборот, надо веки вечные посылать по полдюжине билетов на каждое представление, то какое же дело это выдержит, – ха, Теодор был хитряга! Кроме того, он, конечно, смекнул, что пять билетов из шести будут выбрасываться зря, так как достанутся пятерым неинтересным лицам. Нет, благодарю покорно!
Так он мечтал и горевал, сидя у своего оконца и поглядывал на ее дом. Дни были полны хлопот и суеты, а вечера – ревности и грусти.
«Прощайте, фрекес, прощай навек! Я хожу здесь по моей одинокой комнатке, чтоб бодрствовать в то время, как ты спишь. Пусть я ничтожен по сравнению с ним, но я буду любить тебя верно и искренно до последнего своего часа. Я слишком беден и жалок, чтоб роптать и противиться тому, что подарит мне судьба на моем жизненном пути. О, высокородная фрекен, не наступи на змею, пресмыкающуюся во прахе, это легко может принести тебе погибель, чего я не хотел бы. Но что касается до него, то гордость ведет к падению, пусть он этого не забывает! Я буду неустанно стараться возвыситься в своей отрасли, и, быть может, когда-нибудь он узнает, какого человека сделал навек несчастным. Черт бы меня побрал!»
И на следующий день он был снова бодрым, веселым парнем.
Вот, обе руки у него в перстнях, а сам он – в сером летнем костюме, красивее и не найти. Дошло до того, что он каждый день выставляет свои башмаки для чистки и является в лавку весь новенький и блестящий. Отец его в светелке наверху ничего не знает обо всех этих фокусах; бывают дни, когда он совсем не видит сына, а когда он стучит палкой в пол, сын приходит, только если у него есть время. Вот как обернулось дело. Старик Пер из Буа был человек без всяких тонкостей, зачем это летом светлая одежда, а зимой темная? Носи, что есть! Но Пер из Буа не дорос своему сыну и до коленок. Здороваясь, Теодор снимал шляпу, как делается в других городах, но никак при это не выражался и не говорил «здравствуйте», так нигде не дается. А нынче Теодор начал приписывать на своих счетах S. Е. & О.1, приписывал даже и на письмах.
– Что означают эти буквы? – спросил хозяин гостиницы Юлий, со своей всегдашней назойловостью.
– Тебе не понять, – ответил Теодор, – это по-латыни, и все крупные фирмы всегда так пишут.
Ларс Мануэльсен на это сказал:
– Будь здесь мой сын Лассен, уж он-то, конечно, сумел бы объяснить!
Теодор завел копировальный пресс и копировальную книгу, завел даже несгораемый шкаф, из тех, что рассыпаются в пепел при первом пожаре. В нем он хранил торговые книги. Если б об этом узнал его отец, узнал бы, что его мелочная лавочка превратилась в фирму, и что фирма ведет книги!
Но старый Пер из Буа все-таки чуял, что прогресс подхватил и лавку, и сына; он, разумеется, знал про то, что Теодор вывозит на сторону треску, что вот уже давно это повторяется из года в год; недавно он узнал, что сарай превратился в огромную танцульку, замечал по разным предметам, что барство и избыток проникли в его дом и семью. Царила уже не солидная и доступная простому взору торговля.
Он постучал палкой в пол.
Пришла его жена, пришла фру Пер из Буа. С годами она растолстела и спокойно командовала теперь двумя служанками. В старину было не так, тогда она одна делала всю работу и вдобавок имела на руках несколько человек детей. Но двое мальчиков умерли от скарлатины, а две дочери выросли и обе пристроились, одна у торговца Генриксена в дальних шхерах, а другая у консула Кольдевина в Вестландии – понятно, обе были домоправительницы, камерфрау и страх какие важные особы. У фру Пер из Буа дома оставался один Теодор, и по части почета он превзошел всех. Она спокойно и медлительно бродила по дому и не торопилась даже и тогда, когда муж стучал в пол. Вот как обернулось дело. Она держалась вне пределов досягаемости его палки и спрашивала, чего он так стучит, – господи помилуй, чего он так стучит?
Пер из Буа не признавал интимностей, он всю жизнь прожил, не разговаривая с женой, а если приходилось с ней говорить, глаза его смотрели довольно сурово.
– Пусть Теодор придет наверх!
– Это зависит от того, найдется ли у Теодора время, – отвечает жена.
О, прогресс заразил и фру Пер из Буа, она стала говорить изящнее, чем раньше, и старалась, чтоб выходило как можно изысканнее. Но глаза Пер из Буа не становились мягче от изящной речи.
– Я найду для вас время! – крикнул он и схватил палку.
А ведь он мог бросить палку. Эта возможность не была исключена, у него, действительно, оставался этот последний выход. Поэтому фру Пер из Буа вышла из комнаты.
Старик опять лежал один. Так он лежал все эти бесконечные годы, с разбитой параличом половиной тела, дряхлый и злой, то буйный, то подавленный. Этим летом ему даже стало хуже, душа болела сильнее. Настроение мрачное. Старый способ больше не годится: поддерживать жизнь едой? Какой толк от еды? Она только помогала тянуть существование, которое надо бы прикончить сразу. Но, впрочем, Пер из Буа совсем не желал, чтоб существование его кончилось.