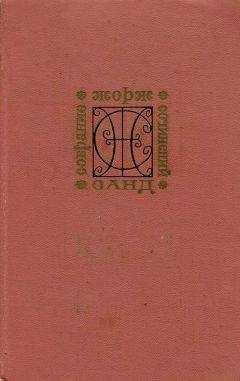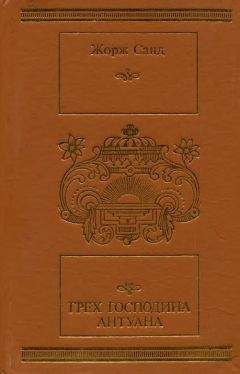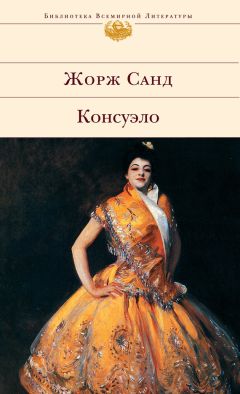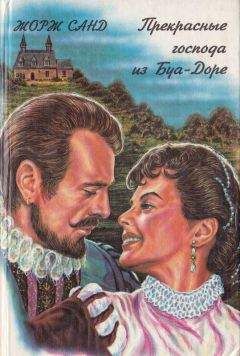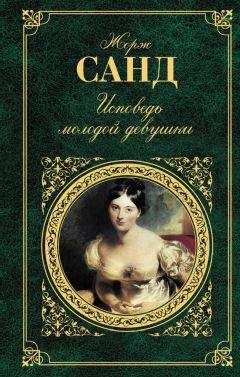Жорж Санд - Мон-Ревеш
Но кто же все-таки прислал эти цветы, из-за которых он так быстро уехал?»
Думая об этом, Тьерре вошел в комнату, где жил Флавьен, спрашивая себя, оставил он или увез этот последний дар любви или коварства.
Там оказалась Манетта — она проветривала помещение.
— Вам что-нибудь угодно, сударь? — спросила она.
— Вот именно, сударыня! Что сталось с цветами, которые были здесь в день отъезда господина де Сож?
— Ах ты господи, опять эти цветы! Это какая-нибудь штучка госпожи Элиетты. Она выкидывает всякие штучки.
— Объяснитесь, сударыня.
— А что я могу объяснить? Я сама ничего не понимаю. В день своего отъезда господин граф меня спрашивает — даже сердито спрашивает, где я взяла цветы, что стоят у него на камине. А я туда никаких цветов не ставила, я их и не видела, когда вечером заходила в комнату, чтобы растопить камин. Я ему клянусь, что это так, а он говорит, что цветы там стоят. Рассердился, отвернулся и уехал совсем! Так вот, сударь, клянусь вам, что эти цветы ему приснились или померещились: ведь после его отъезда я здесь все убирала и вот эта ваза была пуста.
«Он увез их с собой, — сказал себе Тьерре. — Так-то! Значит, он все еще хочет верить, что любим, и верит в это, несмотря ни на что, как бы там ни было!»
Тьерре подошел к камину, где стояла небольшая ваза из старинного фарфора, на которую указывала Манетта, взял ее в руки и стал рассматривать.
— Не беспокойтесь из-за этих цветов, Манетта; их сюда поставила не дама в маске, а я. Они были прекрасны… Какая хорошенькая вазочка!
Тьерре перевернул вазу, и оттуда выпал клочок пергаментной бумаги, привязанной ниткой к сломанному и высохшему стеблю цветка. Когда Флавьен брал букет и выливал воду, он не заметил пергамента, на котором было что-то написано.
«Нет сомнения, — подумал Тьерре, овладевший этой уликой, не привлекая к ней внимания Манетты, — что стебли цветов надломила грубая и неловкая рука. И только тупица мог сунуть в воду вместе с цветами эту бумажку, на которой теперь ничего нельзя разобрать. Похоже на то, что тут действовали рука и голова господина Креза. Он сопровождал нас в тот вечер. И он мог войти сюда, когда мы поднялись в башню за портретом госпожи Элиетты. Я все это выясню!»
Тьерре рассмотрел таинственный клочок со всех сторон, но это было бесполезно. Раньше на нем было что-то написано, и еще можно было различить верхушку прописной буквы, но она так же точно могла быть частью буквы «О», как и любой другой. Удостовериться в чем-либо было невозможно.
Тогда Тьерре снова уселся за свой рабочий стол в гостиной канониссы. Он полюбил эту комнату, даже вместе с унылым попугаем, вечно составлявшим ему компанию, ибо, по словам Манетты, попугай не мог усидеть спокойно нигде, «кроме как тут, где он так уж привык». Но напрасно Тьерре пытался вернуться к своему сочинению. Он был слишком озабочен похождениями Флавьена и всем тем, что в этих похождениях напоминало о Пюи-Вердоне. И он стал думать о загадке, которой ни он, ни Флавьен, ни многие другие не смогли бы разрешить: что же такое Олимпия Дютертр? Фея, кокетка, сумасшедшая, ангел или дура?
«Флавьен не ломает голову над этими вопросами, — думал он. — Единственная загадка, которую он пытался разрешить, подгоняя свою лошадь, получившую от него это прекрасное имя, заключалось в том, чтобы выяснить, любим он или нет. Опять-таки, какая богатая и счастливая натура! Он видит в женщине лишь то, что ему инстинктивно нравится: кротость и грацию, и хочет только, чтобы она принадлежала к тому типу, который он любит. Он не выискивает, как я, достоинства и недостатки, чтобы их потом анализировать. Ах, до чего же я завидую его восторгам и его страданиям!»
Размышляя таким образом, Тьерре чувствовал, что Эвелина, сложный тип, алогичная, недостаточно цельная натура, изучение которой только развивало его бесплодную, назойливую и утомительную страсть к мелочному анализу, все больше отталкивает его. Ему уже не хотелось о ней думать. Мыслями его завладела госпожа Дютертр. Портрет ее, начертанный Флавьеном, грубый, неумелый набросок, эскиз, лишенный тонкости, но пламенный в своем простодушии, все время вставал в его памяти, как скрытая покрывалом Изида[37], которую он забыл, не захотел или не счел нужным подвергнуть наблюдению. И, отрываясь от Эвелины, как от трудной головоломки, он ставил перед собой другую головоломку, труднейшую, стараясь разгадать судьбу гораздо более загадочную и сердце куда более непроницаемое.
«И, однако, этот тайный свет блеснул мне однажды, — думал он. — Когда я увидел эту женщину в Париже, я думал о ней целую неделю, пожалуй, даже две. Она поразила, удивила меня смесью сдержанности и непринужденности. Я смеялся, подшучивал, описывая ее Флавьену как сотканную из противоречий, но ведь в каждой шутке по собственному адресу есть доля правды. Я был если и не влюблен, то на пути к этому, и сюда я приехал не только с целью поохотиться и подышать воздухом; в глубине этих лесов в самом деле таится аромат приключения, который меня притягивал.
Если б я последовал своему первому побуждению, быть может, я был бы сегодня влюблен, как Флавьен. Быть несчастливым, как он, то есть уверенным в собственной склонности побеждать в себе совершенно определенное, пылкое желание, — да это было бы счастье, которое давали мне другие страсти и которого я еще жду от любви. Я не убежал бы, как он: я мучился бы, я бы жил… а вместо этого я скучаю!
Флавьен отказывается от нее, и он прав. У него с Дютертром были денежные отношения, в которых тот показал себя таким хорошим соседом, или, скорее, другом, что было бы просто непорядочно ухаживать за его женой у него на глазах. К тому же Флавьен принадлежит к людям, которые не умеют ждать и бросаются сразу в гущу опасности, хоть они и раскаиваются в этом на следующий же день. Но я ведь ничем не обязан Дютертру, и, кроме того, мне не нужна драма, я предпочел бы поэму. Только фаты и дураки сразу решаются погубить женщину и довести до отчаяния мужа. Умный человек просто шагает вперед как придется, срывая на своем пути цветы или плоды, не думая о том, чтобы кого-нибудь погубить или ограбить, пользуясь жизнью, но ничем не злоупотребляя. И так как настоящими преступлениями являются лишь те, что обдуманы заранее, умный человек может и должен быть счастлив, не опасаясь причинить несчастье своим ближним».
Нагромоздив таким образом кучу софизмов в свою пользу и заставив замолчать все сомнения, этот ум, более гибкий, нежели непреклонный, предался новой фантазии.
— Сегодня вечером мой вывих будет исцелен! — сказал он, толкая ногой подушку, которую доверчивая Манетта каждое утро клала под его письменный стол.
Большими шагами он прошелся по гостиной и вдруг увидел в окне простоватую и вместе с тем хитрую физиономию господина Креза, который с восхищением наблюдал из сада за тем, как свободно Тьерре расхаживает по комнате.
Уже не впервые паж Эвелины под различными предлогами с видом угодливого соболезнования наблюдал за походкой Тьерре. Захваченный на месте преступления, этот последний не счел нужным скрываться.
— Добрый день, господин Крез, — сказал Тьерре, подходя прямо к окну. — Вы толстеете, о богатый Крез, у вас цветущий вид. Нечего и спрашивать, как вы себя чувствуете.
Что касается меня, то если в Пюи-Вердоне вас случайно спросят, как я поживаю, можете сказать, что хорошо. С сегодняшнего утра я прыгаю, как козленок.
— Вижу, вижу, сударь, — отвечал Крез со своей тяжеловесной хитрецой. — Это очень хорошо, сударь, а то уж больно у вас в тот день был несчастный вид. Бьюсь об заклад, что вам здорово надоело хромать столько времени.
Если бы Крез находился в гостиной или Тьерре — во дворе, возможно, писатель и не смог бы подавить в себе желания дать ему пинка и доказать этим, что его нога уже совсем исцелилась. Но, к счастью для Креза, в окне была видна только его голова.
— Господин Крез, — ответил Тьерре, пыхнув сигарой ему в лицо, так что тот подался назад, — я всегда замечал, что от природы вы рассудительны. Иной раз вы, однако, делаете глупости.
— Что ж, может статься, сударь.
— Умеете ли вы читать, юный Крез?
— Ей-богу, нет, сударь.
— Как! Невежда, вы даже азбуки не знаете?
— Ей-богу, нет, сударь! — повторил Крез, сконфуженный и пристыженный.
— В таком случае меня больше не удивляет пренебрежение, с которым вы относитесь к этикеткам доверенных вам растений. Вы суете их в воду вместе с букетом и еще думаете, что человек может прочесть название цветка, когда вы целые сутки вымачивали бумажку в этой вазе.
Тьерре указал на фарфоровую вазу и на вытащенный им лоскуток пергамента.
— Ах, надо же, сударь! — сказал Крез, захваченный врасплох. — Я и не заметил этой бумажки. Значит, тут было название цветка?
— А что еще могло бы тут быть, я вас спрашиваю? Ну-ка, можете ли вы сказать мне это название?