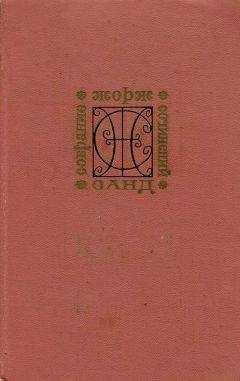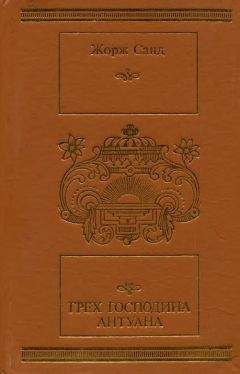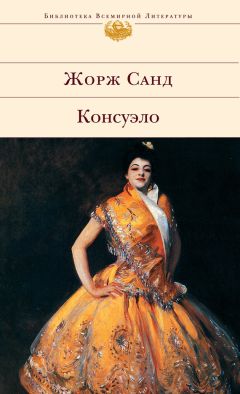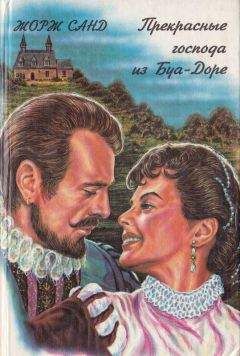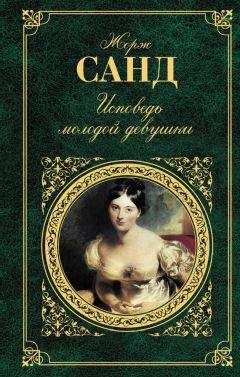Жорж Санд - Мон-Ревеш
«Я раздумываю об этом так же, как и вы, — сказала она, — и, клянусь вам, ничего не понимаю. Умоляю вас, давайте не будем искать этому объяснение».
«Но разве мне нельзя искать его самому? Кому-то здесь пришло в голову пококетничать или подшутить надо мной — так могу ли я не желать выяснить, кто это был? Ведь все женщины, которых я здесь вижу, не говоря уже о вас, сударыня, или прекрасны, или очень красивы!»
«Ах, сударь, не думайте, пожалуйста, что какая-нибудь из моих дочерей могла быть настолько легкомысленна и настолько лишена гордости, чтобы оказывать подобные знаки внимания мужчине, даже самому благородному и надежному».
«Значит, по вашему мнению, это очень компрометирующий поступок? Берегитесь же, как бы мне не открыли настоящую виновницу».
«Тогда… — возразила она с беспокойством, — тогда лучше уж будем считать, что это сделала я».
«Вы? К сожалению, нет. По тому, как вы порицаете этот поступок, я вижу, что это не вы».
«Почему же? Приступ дурачества! Вы ведь меня не знаете!» Говоря это с видом вымученной веселости, она так печально улыбнулась, что я опять был растроган до глубины души. Не знаю, так ли сильно я люблю женщин, как ты, к чести моей, предполагаешь; но я страстно люблю детей — кротких, миловидных и хрупких. Так вот, в Олимпии есть нечто от такого ребенка, в ней есть какая-то пугливость, которая меня просто пьянит; это не робость и не неловкость; напротив, она очень привыкла к обществу, и у нее прекрасные манеры. Но душа ее вечно трепещет в испуге; взгляд ее — это взгляд голубки, которая боится ястреба. И этот невинный взгляд невольно ласкает вас: кажется, что это скромное и, быть может, холодное созданье вот-вот превратится в ребенка и кинется вам в объятия — ища скорее всего не любви, а защиты и покровительства.
Меня очень взволновала эта разновидность невольного кокетства — признаться, для меня совершенно новая. Женщина, говорившая: «Будьте осторожны со мной, может статься, что я смела и опасна», с таким видом, будто молила: «Не убивайте меня, я робка и безобидна», завладела моей душой — или моими чувствами (я никогда не умел отличить одно от другого) — совершенно неизъяснимо. Кровь снова бросилась мне в голову, еще сильнее, чем накануне, кажется, я чуть ли не сжал ее в объятиях и вообще вел себя совершенно нелепо; она же окаменела от изумления, сочла меня сумасшедшим и уже не слушала больше, а только озиралась по сторонам в надежде, что появление кучера заставит меня держаться на почтительном расстоянии.
И кучер действительно появился. Я выскочил из коляски, сел на коня и уехал, весьма недовольный своей глупостью, сам не понимая, как это я оказался таким невоспитанным грубияном, что напугал порядочную женщину, которая чистосердечно и великодушно пыталась защитить репутацию своих глупых падчериц.
Что сказать тебе? Стыд и раскаяние сменились порывом воображения, с которым я долго не мог совладать. Я уехал в лес и появился в замке только вечером; вы с Дютертром стали беспокоиться по поводу моего исчезновения.
Я старался быть с госпожой Дютертр таким почтительным, что она должна была простить меня. Но после этого дня, милый мой Тьерре, я и глаз не сомкнул до тех пор, пока наконец не уехал из Морвана.
В течение всей этой проклятой недели я ежедневно принимал решение не покидать замка Мон-Ревеш, и ежедневно какой-то черт, вселившийся в меня, уносил меня в Пюи-Вердон; я просил прощения у госпожи Дютертр, на все лады выражая почтение и раскаяние. Но каждый день, прося прощения, я делал новую глупость — говорил или давал понять, что безумно влюблен. Это было настолько непроизвольно, что она не могла на меня сердиться. Она только удивлялась, робела, глядела на меня огромными умоляющими глазами перепуганной газели и извинялась за то, что совершенно не может меня понять. И, право же, иной раз можно было поручиться, что она меня не слышит или не может разгадать. Наконец, однажды вечером, когда она опиралась на мою руку во время прогулки, а я испытывал бессознательное, но яростное желание не только поддерживать ее, но и разбить физиономию всякому, кто пожелал бы ее у меня отнять (причем, повторяю, все это были совершенно непроизвольные чувства), она стала говорить мне о муже с таким восхищением и даже восторгом, что я замкнулся в себе. Что я мог ей ответить? Она тысячу раз права, что почитает мужа, уважает семью и исполняет свой долг с любовью. Поскольку я никогда не собирался соблазнять ее, просто был ошеломлен слепым и невольным желанием ошеломить и ее тоже, я ничего не мог ей возразить, а себе просто не находил извинения. Тем более что ее муж заслуживает всего того хорошего, что она о нем думает и говорит. Это один из самых симпатичных людей, которых я когда-либо встречал, и я люблю его, как если бы мы были знакомы двадцать лет. Таким образом, я сыграл тут отвратительно глупую роль, и мне оставалось только отвечать: да, сударыня, ваш муж прекрасный человек и отличный друг. Грубая скотина, которая захотела бы отнять у него жену, сто раз заслуживает пощечины, и эта гнусная скотина — я сам, назло чести, дружбе, благоразумию и деликатности.
Разумеется, свои доводы я оставил при себе, а вслух только и пел с ней в унисон хвалы Дютертру; в Мон-Ревеш я вернулся дождливым вечером, чувствуя себя большим дураком, но полагая, что исцелился. Мы с тобой протолковали часть этой ночи; если помнишь, мы говорили о тебе, обо мне, об Эвелине и о госпоже Элиетте. Потом я пошел к себе в комнату, чтобы лечь спать.
Так вот! Дьявол не отстает от меня, друг мой. Первое, что я обнаружил на своем столе, была ваза с цветами белой азалии — с теми самыми проклятыми цветами, которые наделали столько бед. Цветы были из Пюи-Вердона, они завяли. Их поставили в воду, и они уже начали оживать, но ясно было, что они проделали целое лье, добираясь до моей комнаты.
Опять бессонная ночь! На рассвете я встаю, осматриваю сад, ферму, всю растительность, какая есть в окружности. Ни стебелька азалии, которая с помощью, ну, скажем, Манетты могла бы проникнуть под мою крышу. Возвращаюсь домой, вижу Манетту, которая открывает жалюзи в гостиной, чтобы явить зрелище утренней зари своему допотопному попугаю. Я ее расспрашиваю — она понятия не имеет, о чем я говорю.
И тогда меня начинает разбирать гнев. Что же это такое? Одно из двух: или госпожа Дютертр со всем своим простодушным чистосердечием — жестокая кокетка, или же кто-то другой, жестокий и беспощадный, намерен ее скомпрометировать и погубить. В том и в другом случае я больше не в силах сопротивляться своим чувствам. Кровь моя уже закипела, первобытный инстинкт овладел мною, и как бы я ни смеялся над собой, как бы себя ни презирал, я понял, что не устою и окажусь либо очень виноватым, либо очень смешным — но в обоих случаях очень недовольным собой.
И тут я увидел, что во двор вводят — в самое время! — новую лошадь, за которой я прошу тебя оставить данное мною имя, — Загадка. Она оказалась достаточно рысистой. И я обратился в бегство — и остановился только в Париже. У меня началась ужасная мигрень, которая продолжалась три дня. Врач хотел пустить кровь; однако что бы там ни говорили, я не верю, будто у человека может быть излишек сил; по моему мнению, самое злоупотребление своей силой показывает, что ее у человека недостаточно. Все это время я много занимался физическими упражнениями и теперь чувствую себя лучше. Правда, остались еще следы той нервной лихорадки, которая, как ты знаешь, иногда у меня бывает, и порой мне хочется поколотить какого-нибудь прохожего; но я никого не бью, надеюсь, что не прибью даже собственную собаку. Напиши мне; расскажи про Пюи-Вердон. Быть может, через некоторое время твоя оценка событий заставит меня от души посмеяться.
В секретере у меня в комнате ты найдешь сотню тысячефранковых билетов, которые я там забыл. Это плата за мое морванское имение, которую нотариус Дютертра принес мне на следующий день после того, как я вручил Дютертру доверенность. Мне они сейчас не нужны. Сохрани их для меня, а пока можешь брать сколько тебе понадобится.
Если меня разыгрывала Эвелина, я прощаю ей ради тебя; но если это Натали, то пусть постарается не встречаться со мной в обществе! Не знаю почему, но я подозреваю именно ее. Когда умная женщина не смешна, она непременна очень зла.
Прощай, друг мой, я писал тебе целую ночь и целую ночь волновался, излагая все это. Может быть, я напрасно не остался около тебя, ты бы излечил меня своими рассуждениями… Порой мне страшно хочется вернуться в Мон-Ревеш… Но, право же, это слишком близко от Пюи-Вердона».
XVII
Приведенное выше письмо Флавьена вызвало у Тьерре большое напряжение ума, разрешившееся следующими размышлениями:
«Счастливый юноша! Какая богатая натура! Решительно, он стоит выше меня в иерархии живых существ, как и на лестнице сословных предрассудков. Как он вспыхивает, чувствует, борется, падает снова и наконец выходит победителем! За неделю он забыл гетеру, воспылал страстью к чистой женщине, сказал ей об этом и в эту минуту — кто знает? — мог бы ее победить. Но он кусает платок, теряет сон, чувствует, что она слаба, — и уезжает! Забвенье грубых удовольствий, жажда иных радостей, победа чести, совести и доброты… ведь эти качества тоже ему присущи… и все это он пережил за одну неделю! А что я? Я за это время забыл, что влюблен в Олимпию, но так и не решился влюбиться в Эвелину. Ну, конечно же, Флавьен превосходит меня: он человек действия, а я только мечтатель.