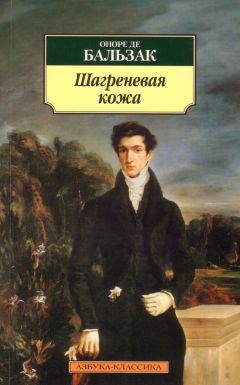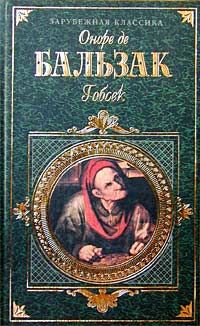Оноре Бальзак - Шагреневая кожа
Быть может, в ней есть идея бесконечности; быть может, в ней таится нечто чрезвычайно лестное для человеческой гордости — не привлекает ли тогда наша судьба всеобщего внимания? Ради контраста с блаженными часами занятий, с радостями творчества утомленный художник требует себе, то ли, как бог, — воскресного отдохновения, то ли, как дьявол, — сладострастия ада, чтобы деятельность чувств противопоставить деятельности умственных своих способностей. Для лорда Байрона не могла быть отдыхом болтовня за бостоном, которая пленяет рантье; ему, поэту, нужна была Греция, как ставка в игре с Махмудом. Разве человек не становится на войне ангелом смерти, своего рода палачом, только гигантских размеров? Чтобы мы могли принять те жестокие мучения, враждебные хрупкой нашей оболочке, которыми, точно колючей оградой, окружены страсти, разве не нужны совершенно особые чары? От неумеренного употребления табака курильщик корчится в судорогах и переживает своего рода агонию, зато в каких только странах, на каких только великолепных праздниках не побывал он! Разве Европа, не успев вытереть ноги, в крови по щиколотку, не затевала войны вновь и вновь? Быть может, людские массы тоже испытывают опьянение, как у природы бывают свои приступы любви? Для отдельного человека, для какого-нибудь Мирабо мирного времени, прозябающего и мечтающего о бурях, в разгуле заключено все; кутеж — это непрестанная схватка, или, лучше сказать, поединок всей жизни с какой-то неведомой силой, с чудовищем; поначалу чудовище пугает, нужно схватить его за рога; это неимоверно трудно. Допустим, природа наделила вас слишком маленьким или слишком ленивым желудком; вы подчиняете его своей воле, расширяете его, учитесь усваивать вино, вы приручаете пьянство, проводите бессонные ночи — и вырабатываете у себя, наконец, телосложение гусарского полковника, вторично создаете себя, точно наперекор господу богу! Когда человек преобразился, подобно тому как ветеран приучил свою душу к артиллерийской пальбе, а ноги — к походам, когда новопосвященный еще не принадлежит чудовищу и между ними пока еще не установлено, кто из них господин, — они бросаются друг на друга, и то один, то другой одолевает противника, а происходит это в такой сфере, где все — чудо, где дремлют сердечные муки и оживают только призраки идей. Ожесточенная эта борьба становится уже необходимой. Воскрешая в себе баснословных героев, которые, согласно легендам, продали душу дьяволу, дабы стать могущественными в злодеяниях, расточитель платит своей смертью за все радости жизни, но зато как изобильны, как плодоносны эти радости! Вместо того чтобы вяло струиться вдоль однообразных берегов Прилавка или Конторы, жизнь его кипит и бежит, как поток. Наконец, для тела разгул — это, вероятно, то же самое, что мистические радости для души. Пьянство погружает нас в грезы, полные таких же любопытных фантасмагорий, как и экстатические видения. Тогда у нас бывают часы, очаровательные, как причуды молодой девушки, бывают приятные беседы с друзьями, слова, воссоздающие всю жизнь, радости бескорыстные и непосредственные, путешествия без утомления, целые поэмы в нескольких фразах. После того как мы потешили в себе зверя, в котором науке долго пришлось бы отыскивать душу, наступает волшебное оцепенение, по которому вздыхают те, кому опостылел рассудок. Не ощущают ли они необходимости полного покоя, не есть ли разгул подобие налога, который гений платит злу?
Взгляни на всех великих людей: либо они сладострастники, либо природа создает их хилыми. Некая насмешливая или ревнивая власть портит им душу или тело, чтобы уравновесить действие их дарований. В пьяные часы люди и вещи предстают перед тобой в образах, созданных твоей фантазией. Венец творения, ты видоизменяешь мир как тебе заблагорассудится. Во время этой беспрерывной горячки игра, по твоей доброй воле, вливает тебе в жилы расплавленный свинец. И вот в один прекрасный день ты весь во власти чудовища; тогда у тебя настает, как это было со мною, грозное пробуждение: у твоего изголовья сидит бессилие. Ты старый вояка — тебя снедает чахотка, ты дипломат — у тебя аневризм сердца, и жизнь твоя висит на волоске; может быть, и мне грудная болезнь скажет:
«Пора! «, как когда-то сказала она Рафаэлю из Урбино, которого погубили излишества в любви. Вот как я жил! Я появился на свет слишком рано или слишком поздно; конечно, моя сила стала бы здесь опасна, если б я не притупил ее таким образом, — ведь геркулесова чаша на исходе оргии избавила вселенную от Александра[62]. В конце концов тем, у кого жизнь не удалась, необходим рай или ад, разгул или богадельня. Сейчас у меня не хватило мужества читать мораль этим двум существам, — сказал он, указывая на Евфрасию и Акилину. — Разве они не олицетворение моей истории, не воплощение моей жизни? Я не мог обвинять их, — они сами явились передо мной как судьи.
На середине этой живой поэмы, в объятиях этой усыпляющей болезни все же был два раза у меня приступ, причинивший мне жгучую боль. Первый приступ случился несколько дней спустя после того как я, подобно Сарданапалу, бросился в костер; в вестибюле Итальянского театра я встретил Феодору. Мы ждали экипажей. «А, вы еще живы! « — так можно было понять ее улыбку и те коварные невнятные слова, с которыми она обратилась к своему чичисбею, разумеется, поведав ему мою историю и определив мою любовь как любовь пошлую. Она радовалась мнимой своей прозорливости. О, умирать из-за нее, все еще обожать ее, видеть ее перед собой, даже предаваясь излишествам в миг опьянения на ложе куртизанок, — и сознавать себя мишенью для ее насмешек!
Быть не в силах разорвать себе грудь, вырвать оттуда любовь и бросить к ее ногам!
Я скоро растратил свое богатство, однако три года правильной жизни наделили меня крепчайшим здоровьем, а в тот день, когда я очутился без денег, я чувствовал себя превосходно. Чтобы продолжить свое самоубийство, я выдал несколько краткосрочных векселей, и день платежа настал. Жестокие волнения! А как бодрят они юные души! Я не рожден для того, чтобы рано состариться; моя душа все еще была юной, пылкой, бодрой. Мой первый вексель пробудил было все прежние мои добродетели; они пришли медленным шагом и, опечаленные, предстали передо мной. Мне удалось уговорить их, как старых тетушек, которые сначала ворчат, но в конце концов расплачутся и дадут денег. Мое воображение было более сурово, оно рисовало мне, как мое имя странствует по Европе, из города в город. Наше имя — это мы сами! — сказал Евсевий Сальверт[63]. Как двойник одного немца, я после скитаний возвращался в свое жилище, откуда в действительности и не думал выходить, и внезапно просыпался. Когда-то, встречаясь на улицах Парижа с банковскими посыльными, этими укорами коммерческой совести, одетыми в серое, носящими ливрею с гербом своего хозяина — с серебряной бляхой, я смотрел на них равнодушно; теперь я заранее их ненавидел. Разве не явится ко мне кто-нибудь из них однажды утром и не потребует ответа относительно одиннадцати выданных мной векселей? Моя подпись стоила три тысячи франков — столько, сколько не стоил я сам! Судебные пристава, бесчувственные ко всякому горю, даже к смерти, вставали передо мною, как палачи, говорящие приговоренному: «Половина четвертого пробило! « Их писцы имели право схватить меня, нацарапать мое имя в своих бумажонках, пачкать его, насмехаться над ним. Я был должником! Кто задолжал, тот разве может принадлежать себе? Разве другие люди не вправе требовать с меня отчета, как я жил? Зачем я поедал пудинги а-ля чиполлата? Зачем я пил шампанское? Зачем я спал, ходил, думал, развлекался, не платя им? В минуту, когда я упиваюсь стихами, или углублен в какую-нибудь мысль, или же, сидя за завтраком, окружен друзьями, радостями, милыми шутками, — передо мной может предстать господин в коричневом фраке, с потертой шляпой в руке. И обнаружится, что господин этот — мой Вексель, мой Долг, призрак, от которого угаснет моя радость; он заставит меня выйти из-за стола и разговаривать с ним; он похитит у меня мою веселость, мою возлюбленную — все, вплоть до постели.
Да, укоры совести более снисходительны, они не выбрасывают нас на улицу и не сажают в Сент-Пелажи, не толкают в гнусный вертеп порока; они никуда не тащат нас, кроме эшафота, где палач нас облагораживает: во время самой казни все верят в нашу невинность, меж тем как у разорившегося кутилы общество не признает ни единой добродетели. Притом эти двуногие долги, одетые в зеленое сукно, в синих очках, с выгоревшими зонтиками, эти воплощенные долги, с которыми мы сталкиваемся лицом к лицу на перекрестке в то самое мгновение, когда на лице у нас улыбка, пользуются особым, ужасным правом — правом сказать: «Господин де Валантен мне должен и не платит. Он в моих руках. О, посмей он только подать вид, что ему неприятно со мной встречаться! «
Кредиторам необходимо кланяться, и кланяться приветливо. «Когда вы мне заплатите? « — говорят они. И ты обязан лгать, выпрашивать деньги у кого-нибудь другого, кланяться дураку, восседающему на своем сундуке, встречать его холодный взгляд, взгляд лихоимца, более оскорбительный, чем пощечина, терпеть его Баремову мораль[64] и грубое его невежество. Долги — это спутники сильного воображения, чего не понимают кредиторы. Порывы души увлекают и часто порабощают того, кто берет взаймы, тогда как ничто великое не порабощает, ничто возвышенное не руководит теми, кто живет ради денег и ничего, кроме денег, не знает. Мне деньги внушали ужас. Наконец, вексель может преобразиться в старика, обремененного семейством и наделенного всяческими добродетелями. Я мог бы стать должником какой-нибудь одушевленной картины Греза, паралитика, окруженного детьми, вдовы солдата, и все они стали бы протягивать ко мне руки с мольбой. Ужасны те кредиторы, с которыми надо плакать; когда мы им заплатим, мы должны еще оказывать им помощь. Накануне срока платежа я лег спать с тем мнимым спокойствием, с каким спят люди перед казнью, перед дуэлью, позволяя обманчивой надежде убаюкивать их. Но когда я проснулся и пришел в себя, когда я почувствовал, что душа моя запрятана в бумажнике банкира, покоится в описях, записана красными чернилами, то отовсюду, точно кузнечики, стали выскакивать мои долги: они были в часах, на креслах; ими была инкрустирована моя любимая мебель. Мои вещи станут добычею судейских гарпий, и милых моих неодушевленных рабов судебные пристава уволокут и как попало свалят на площади. Ах, мой скарб был еще частью меня самого! Звонок моей квартиры отзывался у меня в сердце, поражая меня в голову, куда и полагается разить королей. То было мученичество — без рая в качестве награды. Да, для человека благородного долг — это ад, но только ад с судебными приставами, с поверенными в делах. Неоплаченный долг — это низость, это мошенничество в зародыше, хуже того — ложь. Он замышляет преступления, он собирает доски для эшафота. Мои векселя были опротестованы. Три дня спустя я заплатил по ним. Вот каким образом: ко мне явился перекупщик с предложением продать ему принадлежавший мне остров на Луаре, где находится могила моей матери; я согласился. Подписывая контракт с покупщиком у его нотариуса, я почувствовал, как в этой темной конторе на меня пахнуло погребом. Я вздрогнул, вспомнив, что такая же сырость и холод охватили меня на краю могилы, куда опустили моего отца. Мне это показалось дурною приметою. Мне почудился голос матери, ее тень; не знаю, каким чудом сквозь колокольный звон мое собственное имя чуть слышно раздалось у меня в ушах! От денег, полученных за остров, у меня, по уплате всех долгов, осталось две тысячи франков. Конечно, я мог бы снова повести мирную жизнь ученого, вернуться после всех экспериментов на свою мансарду — вернуться с огромным запасом наблюдений и пользуясь уже некоторой известностью. Но Феодора не выпустила своей добычи. Я часто сталкивался с нею. Я заставил ее поклонников протрубить ей уши моим именем — так все были поражены моим умом, моими лошадьми, успехами, экипажами. Она оставалась холодной и бесчувственной ко всему, даже к ужасным словам: «Он губит себя из-за вас», которые произнес Растиньяк. Всему свету поручал я мстить за себя, но счастлив я не был. Я раскопал всю грязь жизни, и мне все больше не хватало радостей разделенной любви, я гонялся за призраком среди случайностей моего разгульного существования, среди оргий. К несчастью, я был обманут в лучших своих чувствах, за благодеяния наказан неблагодарностью, а за провинности вознагражден тысячью наслаждений. Философия мрачная, но для кутилы правильная! К тому же Феодора заразила меня проказой тщеславия. Заглядывая к себе в душу, я видел, что она поражена гангреной, что она гниет. Демон оставил у меня на лбу отпечаток своей петушиной шпоры. Отныне я уже не мог обойтись без трепета жизни, в любой момент подвергающейся риску, и без проклятых утонченностей богатства. Будь я миллионером, я бы все время играл, пировал, суетился. Мне больше никогда не хотелось побыть одному. Мне нужны были куртизанки, мнимые друзья, изысканные блюда, вино, чтобы забыться.