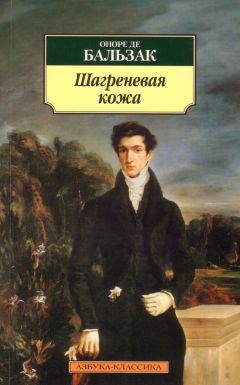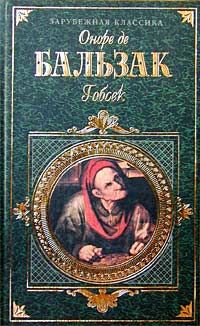Оноре Бальзак - Шагреневая кожа
Растиньяк увлек меня. От этого проекта повеяло слишком сильными соблазнами, он зажигал слишком много надежд — словом, краски его были слишком поэтичны, чтобы не пленить поэта.
— А деньги? — спросил я.
— У тебя же есть четыреста пятьдесят франков? — Да, но я должен портному, хозяйке…
— Ты платишь портному? Из тебя никогда ничего не выйдет, даже министра.
— Но что можно сделать с двадцатью луидорами?
— Играть на них. Я вздрогнул.
— Эх ты! — сказал он, заметив, что во мне заговорила щепетильность.
— Готов без оглядки принять систему рассеяния, как я это называю, а боишься зеленого сукна!
— Послушай, — заговорил я, — я обещал отцу: в игорный дом ни ногой.
И дело не только в том, что для меня это обещание свято, но на меня нападает неодолимое отвращение, когда я лишь прохожу мимо таких мест. Возьми у меня сто экю и иди туда один. Пока ты будешь ставить на карту наше состояние, я устрою свои дела и приду к тебе домой.
Вот так, милый мой, я и погубил себя. Стоит молодому человеку встретить женщину, которая его не любит, или женщину, которая его слишком любит, и вся жизнь у него исковеркана. Счастье поглощает наши силы, несчастье уничтожает добродетель. Вернувшись в гостиницу «Сен-Кантен», я долгим взглядом окинул мансарду, где вел непорочную жизнь ученого, которого, быть может, ожидали почет и долголетие, жизнь, которую не следовало покидать ради страстей, увлекавших меня в пучину. Полина застала меня в грустном размышлении.
— Что с вами? — спросила она.
Я холодно встал и отсчитал деньги, которые был должен ее матери, прибавив к ним полугодовую плату за комнату. Она посмотрела на меня почти с ужасом.
— Я покидаю вас, милая Полина.
— Я так и думала! — воскликнула она.
— Послушайте, дитя мое, от мысли вернуться сюда я не отказываюсь.
Оставьте за мной мою келью на полгода. Если я не вернусь к пятнадцатому ноября, вы станете моей наследницей. В этом запечатанном конверте, — сказал я, показывая на пакет с бумагами, — рукопись моего большого сочинения «Теория воли»; вы сдадите ее в Королевскую библиотеку. А всем остальным, что тут останется, распоряжайтесь как угодно.
Взгляд Полины угнетал мне сердце. Передо мной была как бы воплощенная совесть.
— Больше у меня уроков не будет? — спросила она, указывая на фортепиано. Я промолчал.
— Вы мне напишете?
— Прощайте, Полина.
Я мягко привлек ее к себе и запечатлел братский, стариковский поцелуй на ее милом лбу, девственном, как снег, еще не коснувшийся земли. Она убежала. Мне не хотелось видеть госпожу Годэн. Я повесил ключ на обычное место и вышел. Сворачивая с улицы Клюни, я услышал за собой легкие женские шаги.
— Я вышила вам кошелек, неужели вы откажетесь взять его? — сказала Полина.
При свете фонаря мне почудилось, что на глазах Полины блеснули слезы, и я вздохнул. Побуждаемые, вероятно, одною и тою же мыслью, мы расстались так поспешно, как будто убегали от чумы. Рассеянная жизнь, в которую я вступал, нашла себе причудливое выражение в убранстве комнаты Растиньяка, где я с благородной беспечностью дожидался его. Камин украшали часы с Венерой, сидящей на черепахе, а в объятиях своих Венера держала недокуренную сигару.
Как попало была расставлена элегантная мебель — дары любящего сердца.
Старые носки валялись на созданном для неги диване. Удобное мягкое кресло, в которое я опустился, было все в шрамах, как старый солдат; оно выставляло напоказ свои израненные руки и въевшиеся в его спину пятна помады и «античного масла» — следы, оставленные головами приятелей Растиньяка. В кровати, на стенах — всюду проступало наивное сочетание богатства и нищеты.
Можно было подумать, что это неаполитанское палаццо, в котором поселились лаццарони. То была комната игрока, прощелыги, который создал свое особое понятие о роскоши, живет ощущениями и ничуть не обеспокоен резкими несоответствиями. Впрочем, эта картина была не лишена поэзии. Жизнь представала здесь со всеми своими блестками и лохмотьями, неожиданная, несовершенная, какова она и есть в действительности, но живая, причудливая, как на бивуаке, куда мародер тащит все, что попало. Разрозненными страницами Байрона затопил свой камин этот молодой человек, ставивший на карту тысячу франков, хотя подчас у него не было и полена дров, ездивший в тильбюри и не имевший крепкой сорочки. Завтра какая-нибудь графиня, актриса или карты наградят его королевским бельем. Вот свеча, вставленная в зеленую жестянку от фосфорного огнива, там валяется женский портрет, лишенный своей золотой чеканной рамки. Ну, как может жаждущий волнений молодой человек отказаться от прелестей жизни, до такой степени богатой противоречиями, дарящей ему в мирное время все наслаждения военного быта? Я было задремал, как вдруг Растиньяк толкнул ногой дверь и крикнул:
— Победа! Теперь можно умирать по своему вкусу… Он показал мне шляпу, полную золота, поставил ее на стол, и мы затанцевали вокруг нее, как два каннибала вокруг своей добычи; мы топотали ногами, подпрыгивали, рычали, тузили друг друга так, что могли бы, кажется, свалить носорога, мы пели при виде всех радостей мира, которые содержались для нас в этой шляпе.
— Двадцать семь тысяч франков, — твердил Растиньяк, присоединяя к куче золота несколько банковых билетов. — Другим таких денег хватило бы на всю жизнь, а нам хватит ли на смерть? О да! Мы испустим дух в золотой ванне… Ура!
И мы запрыгали снова. Мы, как наследники, поделили все, монету за монетой; начав с двойных наполеондоров, от крупных монет переходя к мелким, по капле цедили мы нашу радость, долго еще приговаривая: «Тебе!.. Мне!.. «
— Спать мы не будем! — воскликнул Растиньяк. — Жозеф, пуншу!
Он бросил золото верному своему слуге.
— Вот твоя часть, — сказал он, — бери на помин души.
На следующий день я купил мебель у Лесажа, снял на улице Табу квартиру, где ты и познакомился со мной, и позвал лучшего обойщика. Я завел лошадей. Я кинулся в вихрь наслаждений, пустых и в то же время реальных. Я играл, то выигрывая, то теряя огромные суммы, но только на вечерах у друзей, а отнюдь не в игорных домах, которые по-прежнему внушали мне священный, первобытный ужас. Неприметно появились у меня друзья. Их привязанности я был обязан раздорам или же той доверчивой легкости, с какой мы выдаем друг другу свои тайны, роняя себя ради компании, — но, быть может, ничто так не связывает нас, как наши пороки? Я осмелился выступить на поприще изящной словесности, и мои произведения были одобрены. Великие люди ходовой литературы, видя, что я вовсе не опасный соперник, хвалили меня, разумеется, не столько за мои личные достоинства, сколько для того, чтобы досадить своим товарищам.
Пользуясь живописным выражением, вошедшим в язык ваших кутежей, я стал прожигателем жизни. Мое самолюбие было направлено на то, чтобы день ото дня губить себя, сокрушая самых веселых собутыльников своей выносливостью и своим пылом. Я был всегда свеж, всегда элегантен. Я слыл остряком. Ничто не изобличало во мне того ужасного существования, которое превращает человека в воронку, в аппарат для извлечения виноградного сока или же в выездную лошадь. Вскоре разгул явился передо мной во всем ужасном своем величии, которое я постиг до конца! Разумеется, люди благоразумные и степенные, которые наклеивают этикетки на бутылки, предназначенные для наследников, не в силах понять ни теории такой широкой жизни, ни ее нормального течения; где уж тут заразить провинциалов ее поэзией, если для них такие источники наслаждения, как опий и чай, — все еще только лекарства? И даже в Париже, столице мысли, разве мы не встречаем половинчатых сибаритов? Неспособные к наслаждениям чрезмерным, не утомляются ли они после первой же оргии, как добрые буржуа, которые, прослушав новую оперу Россини, проклинают музыку? Не так ли отрекаются они от этой жизни, как человек воздержанный отказывается от паштетов из гусиной печенки с трюфелями, потому что первый же такой паштет наградил его несварением желудка? Разгул — это, конечно, искусство, такое же, как поэзия, и для него нужны сильные души. Чтобы проникнуть в его тайны, чтобы насладиться его красотами, человек должен, так сказать, кропотливо изучить его. Как все науки, вначале он от себя отталкивает, он ранит своими терниями. Огромные препятствия преграждают человеку путь к сильным наслаждениям — не к мелким удовольствиям, а к тем системам, которые возводят в привычку редчайшие чувствования, сливают их воедино, оплодотворяют их, создавая особую, полную драматизма жизнь и побуждая человека к чрезмерному, стремительному расточению сил. Война, власть искусства — это тоже соблазн, настолько же превышающий обыкновенные силы человеческие, настолько же влекущий, как и разгул, и все это трудно достижимо. Но раз человек взял приступом эти великие тайны, не шествует ли он в каком-то особом мире? Полководцев, министров, художников — всех их в той или иной мере влечет к распутству потребность противопоставить своей жизни, столь далекой от обычного существования, сильно действующие развлечения. И в конце концов война — это кровавый разгул, политика — разгул сталкивающихся интересов. Все излишества — братья. Эти социальные уродства обладают, как пропасти, притягательной силой; они влекут нас к себе, как остров святой Елены манил Наполеона; они вызывают головокружение, они завораживают, и, сами не зная зачем, мы стремимся заглянуть в бездну.