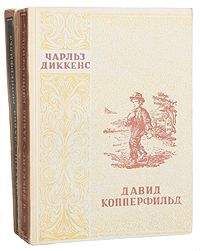Чарльз Диккенс - Жизнь Дэвида Копперфилда, рассказанная им самим (XXX-LXIV)
То ли мое сообщение оказало благотворное действие на его расположение духа, то ли ему доставили удовольствие размышления о прошлом, – не могу сказать, но, во всяком случае, расположение духа у него улучшилось. За обедом он говорил больше, чем обычно, спросил свою мать (которая была освобождена от своих обязанностей с того момента, как мы возвратились домой), не слишком ли он стар, чтобы оставаться холостяком, а однажды бросил такой взгляд на Агнес, что я готов был отдать все на свете за удовольствие сбить его с ног.
Когда мы, трое мужчин, остались одни после обеда, он еще больше осмелел. Вина он почти не пил, и эта смелость, мне кажется, вызвана была его торжеством и усугублялась искушением сделать меня свидетелем того, что происходит.
Накануне я заметил, что он старался подпоить мистера Уикфилда, и, уловив взгляд, брошенный на меня Агнес, когда она уходила, я ограничился одной-единственной рюмкой и предложил последовать за Агнес. И теперь я хотел поступить точно так же, но Урия меня опередил.
– Мы редко видим нашего гостя, сэр, – обратился он к мистеру Уикфилду, сидевшему – как это было непохоже на прежние времена! – в конце стола. – И я предлагаю выпить в его честь. Одну-две рюмки, если вы не возражаете. За ваше здоровье и счастье, мистер Копперфилд!
Я вынужден был сделать вид, будто пожимаю ему руку, которую он протянул через стол, а затем, совсем с другим чувством, пожал руку несчастного джентльмена, его компаньона.
– А теперь, мой компаньон, – продолжал Урия, – я беру на себя смелость… может быть, и вы предложите какой-нибудь тост, который доставит удовольствие Копперфилду?
Не буду останавливаться на том, как мистер Уикфилд предлагал выпить за мою бабушку, за мистера Дика, за Докторс-Коммонс и Урию, и как всякий раз он выпивал по две рюмки; не буду описывать, как он, сознавая свою слабость, безуспешно пытался с ней бороться, как он мучился от стыда за поведение Урии и вместе с тем хотел его ублажить, и как ликовал Урия, извиваясь и унижая его на моих глазах. Тяжело мне было это видеть, и моя рука отказывается об этом писать.
– А теперь, мой компаньон, – сказал, наконец, Урия, – и я хочу предложить еще один тост, но смиренно прошу налить рюмку до краев, потому что этот тост – за самое прелестное создание женского пола!
У отца Агнес рюмка была пуста. Он поставил ее на стол, взглянул на портрет, на который так была похожа Агнес, поднес ко лбу руку и откинулся на спинку кресла.
– Я человек слишком ничтожный и смиренный, чтобы пить за ее здоровье, – продолжал Урия, – но я преклоняюсь… я обожаю ее!
Если бы ее отец испытывал любую физическую боль, мне не было бы так страшно, как тогда, когда я увидел, какие душевные муки он терпит, сжимая обеими руками голову.
– Агнес, – воскликнул Урия, то ли не глядя на него, то ли не понимая его состояния, – Агнес Уикфилд, могу смело сказать, прелестнейшая из женщин! Разрешите говорить откровенно среди друзей – быть ее отцом большая честь, но быть ее мужем…
Избави меня бог когда-нибудь еще слышать такой вопль, какой издал отец, поднявшись из-за стола!
– В чем дело? – смертельно побледнев, произнес Урия. – Надеюсь, мистер Уикфилд, вы не сошли с ума? Да, я домогаюсь сделать вашу Агнес – своей Агнес, но на это у меня такие же права, как и у любого. Больше прав, чем у любого другого!
Я охватил руками мистера Уикфилда, я умолял его успокоиться, я заклинал его всем, что только мог придумать, и прежде всего его любовью к Агнес. Он обезумел. Рвал на себе волосы, бил себя по голове, отталкивал меня, старался освободиться, не говоря ни слова и ничего не видя; точно слепой, он устремился неведомо куда… Глаза его были выпучены, лицо искажено – страшное зрелище!
Бормоча что-то несвязное, но с необыкновенным жаром я умолял его опомниться и выслушать меня. Я молил его подумать об Агнес, об Агнес и обо мне, молил вспомнить, как мы росли вместе с Агнес и как я любил и уважал ее – радость его и гордость. Я всячески старался вызвать перед ним образ Агнес, даже упрекал в том, что он не щадит ее, так как она может узнать о происшедшей сцене.
Может быть, мои старания помогли в какой-то мере, а может быть, припадок его начал ослабевать сам собой, но постепенно он стал вырываться из моих рук все слабее и все чаще на меня поглядывал, сначала очень странно, а затем взор его стал более осмысленным. Наконец он произнес:
– Я это знаю, Тротвуд… Мое любимое дитя и вы… да, я знаю! Но посмотрите на него!
Он показал на Урию – бледный, застигнутый врасплох, тот с яростью сверкал глазами из какого-то угла, обманутый, очевидно, в своих расчетах.
– Посмотрите на моего мучителя! – продолжал мистер Уикфилд. – Из-за него я мало-помалу потерял свое имя и репутацию, мир и покой, дом и семейный очаг.
– Вернее, я сохранил вам ваше имя и репутацию, мир и покой, – быстро сказал Урия с видом хмурым и смущенным, желая выйти из неловкого положения. – Оставьте эти глупости, мистер Уикфилд! Если я немного забежал вперед, а вы этого не ждали, что ж, я могу повернуть назад. Какой кому от этого вред?
– Я всегда знал – у каждого есть своя цель, – сказал мистер Уикфилд, – и я убедился, что его связывает со мною голый расчет. Но взгляните на него! О! Поглядите, что это за человек!
– Лучше остановите его, Копперфилд, если можете! – крикнул Урия, вытянув по направлению ко мне длинный указательный палец. – А не то – берегитесь! – он, пожалуй, скажет нечто такое, о чем потом пожалеет, да и вы пожалеете, что это слышали!
– Я расскажу все! – с отчаянием вскричал мистер Уикфилд. – Если я нахожусь в вашей власти, так почему же мне не быть во власти кого угодно!
– Говорю вам, берегитесь! – снова предостерег меня Урия. – Если вы не заткнете ему рот, вы ему не друг! Почему вам не быть во власти кого угодно, мистер Уикфилд? Потому, что у вас есть дочь. Ведь нам обоим кое-что известно, не так ли? Не дразните собак! Что до меня – я их дразнить не буду. Разве вы не видите, что я человек смиренный, насколько это возможно? Повторяю, если я зашел слишком далеко, мне очень жаль. Чего вы еще хотите, сэр?
– О Тротвуд, Тротвуд! – ломая руки, вскричал мистер Уикфилд. – Как я опустился с той поры, когда впервые увидел вас в этом доме! Уже тогда я начал скользить вниз, но какой страшный, страшный путь я проделал с той поры! Слабость – вот что меня погубило! Слишком слаб я был, предаваясь воспоминаниям, и слишком слаб, стараясь забыться. Моя тоска по матери моего ребенка привела к болезни и к болезни привела любовь к ребенку. Я заражал все, к чему ни прикасался. Я принес несчастье той, кого я так любил! О! Вы-то это знаете! Я считал, что могу беззаветно любить только одно существо, и никого больше, я считал, что могу оплакивать только одно умершее существо и не плакать вместе с теми, кто кого-нибудь оплакивает, так же как и я. И опыт всей моей жизни обратился против меня! Я терзал свое малодушное сердце, а оно терзало меня. В своем горе я был жалок, жалок был в любви, жалки были мои несчастные попытки бежать от тяжких испытаний любви и горя! И вот теперь я – развалина. О! Вы должны меня сторониться, вы должны меня ненавидеть!
Он упал в кресло и начал тихо всхлипывать. Возбуждение его угасало. Урия вышел из своего угла.
– Я знаю далеко не все из того, что я делал в невменяемом состоянии, – сказал мистер Уикфилд и протянул ко мне руки, словно умолял не осуждать его. – Но он-то знает превосходно, – мистер Уикфилд имел в виду Урию Хипа, – так как всегда был около меня и нашептывал, что я должен делать. Это жернов на моей шее. Вы видите, он уже живет – у меня в доме, вы видите, он мой компаньон… А только что вы его слышали. Ну, что мне еще остается сказать?
– Вы могли бы и этого не говорить, и было бы лучше, если бы вы вообще ничего не говорили, – заметил Урия вызывающе и вместе с тем вкрадчиво. – Вы не вели бы себя так, если бы не напились. Завтра вы одумаетесь, сэр. А если я и сказал слишком много или больше, чем хотел, что за беда? Я же на этом не настаивал!
Дверь открылась, и вошла Агнес; в лице ее не было ни кровинки, она обняла отца за шею и твердо сказала:
– Папа, вы нездоровы, идемте со мной.
Он прильнул головой к ее плечу, словно под гнетом нестерпимого стыда, и вышел с ней. Только на мгновение ее взгляд встретился с моим, но я понял – она знала, что произошло.
– Я не ожидал, мистер Копперфилд, что он будет так буйствовать, – сказал Урия. – Но не беда! Завтра мы будем друзьями. Это только послужит ему на пользу. О его пользе я смиренно забочусь.
Я промолчал и поднялся наверх в ту тихую комнатку, где Агнес так часто сидела около меня, когда я корпел над книгами. До позднего вечера ко мне никто не приходил. Я взял какую-то книгу и пытался читать. Пробило полночь, я все еще читал, не зная и не понимая, что читаю, как вдруг Агнес тихо коснулась моего плеча:
– Рано утром вы уезжаете, Тротвуд. Попрощаемся. – Она недавно плакала, но теперь ее лицо было так спокойно и так прекрасно! – Да благословит вас господь, – протягивая мне руку, сказала она.