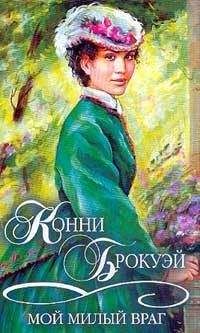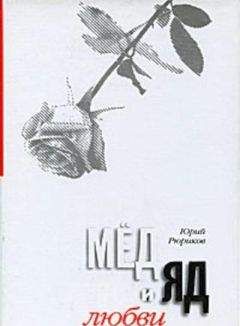Александр Сеничев - Александр и Любовь
Он (из Шахматова): «Я думаю каждый день. Странно жить здесь без тебя в пустом доме. Очень часто я хочу писать тебе. Но ты так далеко и я многого не могу понять в твоем письме».
Из Боржома: «Люблю тебя одного в целом мире. Часто падаю на кровать и горько плачу: что я с собой сделала!.. Одно знаю: быть с тобой, около тебя, и ничего, ничего другого не надо, и сцены не надо душе моей . Пишу ночью, пишу любя тебя до слез, моя радость».
Он - в ту же самую ночь: «Может быть, нам нужно временами жить вместе. Теперь мне часто кажется, что мы можем жить вместе всегда, но - не знаю. Может быть, ты заметила, что я давно уже не умею писать тебе. Мое отношение к тебе уже не требует никаких слов.» Из Боржома: «Начинает бродить мысль, что вдруг теперь ты не захочешь меня принять, ты презираешь или полюбил кого-нибудь. Боже мой, боже мой!»
Из Шахматова: «Я никого не люблю, кроме тебя... Всё -безумие, глупости, обман, наваждение. Мы должны жить вместе и будем. Вернусь скоро в Петербург и буду ломать стену и устраивать тебе комнаты».
Она: «Может быть, приеду в Петербург, когда ты будешь там, это мне будет легче, а то мучительно стыдно Шахматова, нашего дома и сада, пока я не очистила свою душу совсем от всего, чего так мучительно стыдно. Я теперь хочу быть с тобой всегда, не расставаться. И сама я в горьком, горьком опыте становлюсь лучше, я знаю - не буду тебя шокировать, так бережно буду нести нашу жизнь.». Он: «Почему ты пишешь, что приготовила себе мучение? Меня очень тревожит это; и мне не нравится то, как ты сомневаешься в том, как я тебя встречу. Мне во многих делах очень надо твоего участия. Стихи в тетради давно не переписывались твоей рукой. Давно я не прочел тебе ничего. Давно чужие люди зашаркали нашу квартиру...»
Нам-то с вами хорошо, мы в курсе, о каком стыде и о каких своих мучениях твердит она из письма в письмо. Плохо Блоку - он не понимает из всего этого ни слова. И вдруг допускает непростительную ошибку: «Из твоих писем я понял, что ты способна бросить сцену. Я уверен, что если нет настоящего большого таланта, это необходимо сделать. Хуже актерского «быта» мало на свете ям».
Люба молчала целых две недели. Затем - уже 11 июля - после череды тревожных его телеграмм она пишет, что ею снова овладела волна актерского сумасшествия, и она снова не понимает, как совместить мечты о жизни с ним с верой в себя как в актрису. А актерское сумасшествие - и к этому мы, кажется, начинаем привыкать - неизменно влечет за собой и ее сумасшествие дамское: «Есть у меня «флирт» с милым мальчиком. это легко и не важно, может оборваться когда угодно. Но я целуюсь с ним.»
Блок в отчаянии. Он только что всерьез настроился ломать стены. Все стены - и в их квартире, и в их забредших в тупик отношениях. Кажется, он готов начать все сначала. Но сначала уже не получается: Люба снова целуется с каким-то «мальчиком».
Уже из Петербурга летят его беспробудно пьяные письма. В них вновь о ведомой ему одному тайне, о нестерпимом далее одиночестве, о неспособности жить без ее присутствия: «Помоги мне, если можешь»
В ответ она просит простить ей ее «опущенность», обещает вернуться «тогда все будет по-другому». Точка апогея - его письмо от 26 июля.
«С каждым днем все тяжелее. Не знаю, как дождаться тебя. Ради бога, Люба, не утяжеляй камня на сердце, ведь я не кукла. Пока у тебя «апатия», у меня - пытка. Реши что-нибудь. Ты старишь меня своими письмами. Если я тебе чужой, признайся себе в этом. я не могу ни работать, ни жить, не думать. Такое « условное» одиночество - хуже каторги... Прости, что мешаю тебе жить, прости. кажется, дойду скоро до равнодушия полного, отправлю к черту весь этот проклятый мир».
Последний раз послать этот мир к черту он грозился в ноябре 1902-го. Тогда угроза возымела действие. Но пугать Любу самоубийством уже ни к чему.
28 июля и от нее самой приходит письмо-стон: «Саша, поддержи меня, надо ужасно много силы, Что-то не так, мучительно не так... Я на опасном перепутье, Саша, помоги... Я приеду к тебе, я отдам тебе всю свою душу и закрою лицо твоими руками и выплачу весь ужас, которым я себя опутываю. Я заблудилась, заблудилась». Это финиш. Женщина на четвертом месяце, если вы понимаете, что это такое. Она действительно окончательно заблудилась и все, что ей сейчас нужно - выплакать весь ужас, зарывшись в его руки.
Казалось бы: любите? страдаете? - ну хватит тогда чернила переводить! - соединитесь уже! - Нет. Переписка продолжается.
Он терзается неведением, торопит ее с возвращением. В ответ - прежний лепет о призвании, о «сумасшествии» или «апатии», о спектаклях, ролях, актерах. Все те же темные намеки и те же невнятные взывания: «Саша, поддержи меня. Я на опасном перепутье. Саша, помоги.» У него - перепады упадка и подъема. 2 августа он пишет (кричит? орет?) ей: «Нам необходимо жить вместе и говорить много, помогать друг другу. Никто кроме тебя не поможет мне ни в жизни, ни в творчестве».
И в этом тяжелейшем июле у Блока вдруг снова идут стихи.
И какие: «За гробом», «Мэри», «Друзья», «Поэты», «Она как прежде захотела», «О доблестях, о подвигах, о славе», которое было доработано позже, в декабре.
В окончательной его редакции - строки:
Ты отдала свою судьбу другому,
И я забыл прекрасное лицо.
Всё. Прекрасное лицо забыто. Навсегда. Богочеловеческое и сверхчеловеческое отошло, осталось обычное людское. Последнее его письмо уже не застало Любу в Боржоме. 4-го она выехала оттуда, 9-го была в Петербурге. Блок, наконец, узнал то, что должен бы был понять еще весной.
И целую неделю после этого - неслыханное дело! - он не писал матери.
Казалось бы: чего еще не хватало для испытания этого союза на прочность? Не хватало самой малости - байстрюка. Он появляется в списке действующих лиц очень своевременно.
Наши герои только-только приготовились становиться предсказуемыми. И даже мы вроде бы начали привыкать к тому, что Блок - обычный самовлюбленный (теперь уже просто отовсюду слышится его очередное «себастьяновское» «Что ж»), самонадеянный (их последняя встреча, конечно же, лишь укрепила Александра Александровича в уверенности, что Люба - его Дианка) лентяй (по-прежнему не хочет сам и пальцем шевельнуть, судьба обязана нести семейные блага на блюдечке с известного цвета каемочкой). Едва оформился в нашем сознании и образ новой Любы - Любы, обретшей благодаря папиному наследству определенную личностную самостоятельность. Едва нам стало мерещиться, что все последующие перипетии в этой семейной драме уже прогнозируются, как вдруг Всевышний выкатил из кустов проверенный-перепроверенный рояль.
Дитя, притаившееся в Любиной утробе, снова перепутало все карты. Нежданный чужой ребенок - вот увеличительное стекло, через которое хитроумный заоблачный драматург предлагает нам рассмотреть неровности стыка этих двух судеб. Эти неровности казались уже утратившими свое значение. Эти поверхности казались уже идеально отшлифовавшимися, и вдруг - такой заусенец! Склеится ли теперь?..
История подсказывает: склеилось. Но какой ценой?
Митька
Блок был поставлен перед фактом. 20-го они уехали в Шахматово. Как сложились для них эти одиннадцать дней? Кое-что находим у Веригиной: «Любовь Дмитриевна. возвратилась в Петербург в состоянии предельного отчаяния. Она решила избавиться от верной катастрофы, которую предчувствовала, но мать и сестра все еще не вернулись из-за границы, и опять никого не было, кто бы помог, посоветовал.»
В набросках воспоминаний Л. Д. есть признания в том, что ничего она так не боялась, как деторождения и материнства: затяжелев-де, испугалась, решила избавиться от ребенка, но поверила вздорному совету и, когда вернулась домой, предпринимать что-то было уже поздно. Пришлось признаваться до конца.
«И я горько плакала, знала - это будет верная смерть». Реакция Блока - дословно: «Пусть будет ребенок. Раз у нас нет, он будет наш общий».
«И Люба смирилась», - констатирует Веригина. В связи с чем мы вынуждены полагать, что ее любимая Л. Д. всего-то -согласилась идти навстречу испытанию токмо из уважения к решению мужа. Что ж, пусть так.
Александре Андреевне об этом решении Блока написала Люба. Из письма следует, что он запретил ей «говорить о всем горьком» даже Анне Ивановне. И, стало быть, «пусть знают, кто знает».
Формально круг посвященных в тайну происхождения ребенка был невелик: они сами, Бекетовы, Веригина, да еще Е. Иванов. Этот ласковый теленок необыкновенно близок не только Блоку и Любе (с Любой-то у него, между прочим, даже что-то вроде романчика успело состояться), но и матери поэта.
В ноябре Александра Андреевна пишет ему - уже из Ревеля: «Я все-таки рада, что Люба сама с Вами говорила. Ведь она теперь очевидна. Это будет их ребенок, Саши и Любы. Саша так решил. . Разве это не хорошо?» Да отчего же не хорошо? Хорошо, конечно. И по-мужски это. И вообще. Даже в личных отношениях у Блоков на этой почве начинает что-то меняться. В чем и пытается заверить Люба свекровь, пересказывая впечатления от вечера у неких Коппельманов «. все вдвоем, а не втроем, и не в одиночку, как бывало прежде. Даже странно.».