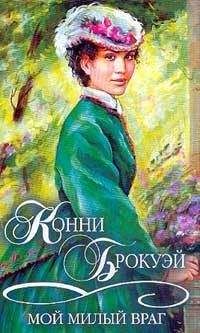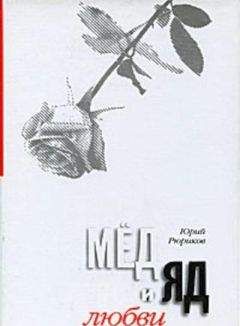Александр Сеничев - Александр и Любовь
Проще говоря: Господь терпел, я терпела, теперь терпи и ты.
И поставленный на место Блок терпит.
В таком непривычном и неуютном одиночестве.
Волохова оттолкнула. Люба окончательно оперилась и самоутверждается. Мама - в Ревеле, помогает Францу командовать Онежским полком.
«Такое холодное одиночество - шляешься по кабакам и пьешь», - пишет он ей. Очевидцы вспоминали, что в этот период Блок действительно пил совершенно беспробудно. А писем от Любы нет.
Их нет аж до самого ее возвращения - до 7 мая. Вояж завершен, и Мейерхольд распустил свою антрепризу. Но Менделеева с группой товарищей приняли решение продолжать гастроли. Теперь - на Кавказе. На повидаться у них с Блоком снова всего десять дней.
И мы опять вынуждены выуживать информацию из непрямых источников. И снова обращаемся к «Песне судьбы», в которой Л. Д. фигурирует под именем Елены. Так вот -оттуда, в эти самые дни писанное: «Ты не узнаешь ничего и не получишь воздаяния. Усталая Елена проходит в избу, где сидит опустевший Герман (жизнь смрадная). Она бросается к нему. Герман сурово отстраняет ее, твердя эти слова. Она остается вблизи его - памятуя слова монаха: «А на конце пути - душа Германа».
И скажите, что это не отчет о том их майском объяснении.
То есть, никакого твердого решения не получилось. Условились лишь, что осень проведут в Шахматове, а зимой будут жить вместе в Петербурге. Для родных и чужих она осталась «хозяйкой дома», пребывающей в отлучке. А дальше уж сама жизнь подскажет.
Однако симпатично выкрашенный фасад скрывает от нас весьма пикантную подоплеку. Положение Любови Дмитриевны было на самом деле незавидным. Белый - тот звал её хотя бы во что-то реальное. Уходить же теперь ей было решительно некуда. С Дагобертом она уже порвала -«глупо, истерично, беспричинно». А безнадежно глухой к чужим страданиям Блок полагал, что от него требовалось лишь одно - как всегда уже простить. Он и простил. И великодушно отпустил (внешне это выглядит скорее как «выставил») на Кавказ...
И для того только, чтобы не врать (а умолчание в нашем случае - одна из самых гадких форм вранья) мы перелистаем вместе с вами воспоминания еще одной знакомой поэта - из тех, приятельство с которыми он свел во времена «бумажного бала» - актриски же Валентины Щеголевой.
Совсем некрасивая лицом, в компенсацию за что предельно женственная и грациозная, эта дама оказывается вдруг на самом переднем крае борьбы Блока с одиночеством. Жена Чулкова вспоминала что Блок часто уходил бродить за город, любил кататься на лодке - один или с кем-нибудь. И в одну из таких прогулок утащил ее Георгия и пару актрис, одной из которых была как раз Щеголева. «Это было в начале мая 1908 года. Уехав с утра на взморье, они вернулись только на другой день к обеду...» - уточняет она.
Естественно, вспоминала об этом пикничке и сама Валентина Андреевна. О том, как совершенно случайно попала с Блоком на острова и - очень подробно - о том, как настойчиво Блок тащил ее туда. Далее - дословно: «Зачем я ему? Он так жадно и страстно меня целовал, точно голодный. Я боролась, я сердилась, возмущалась и смеялась, в конце концов. Что спросить с этого умного очаровательного человека. Только бы мне не влюбиться в него, вот была бы штука». Конечно, главное - не влюбиться! Но не влюбиться не получилось. Уже через пару недель (как раз после отъезда Л.Д. на кавказские гастроли) она писала поэту: «Моя любовь сильна и прекрасна, моя любовь не требует жертв. Она сама вся жертва, вся восторг, вся приношение. Но именно потому-то я и не отдала тебе мое тело, мое земное прекрасное тело, что люблю тебя высшей, не знающей конца, не видящей начала вечной любовью. Смотреть на тебя, знать, что ты существуешь, видеть тебя. умереть за тебя. И вечно гореть думой о тебе, и благословлять дом, в котором ты живешь, и землю, по которой ты ходишь (ступаешь). Знать, что ты любишь другую.»
И тут вовсе не Л. Д. - Волохову она имеет в виду. Вам этот текст ничего не напоминает? Все эти «прильнуть - и уйти», «умереть за тебя», все эти «разрывы сердца» - нет? А у нас опять дурацкое чувство, будто и это мы уже читали.
И не где-то, а непосредственно в письмах 22-летнего жениха-Блока. Вот она - чисто Блоковская прелесть межполовых отношений: стремиться, добиваться, желать, вожделеть, но не обретать.
Сохранились и восемь писем Блока к Щеголевой. В том числе и текст майского, весьма странного, где помимо прочего: «Простите меня, ради бога, многоуважаемая Валентина Андреевна. Если бы вы знали, как я НЕ МОГУ сейчас, главное - внутренне - не могу: так сложно и важно на душе. Сегодня получил Ваше письмо и думал; но - не могу, право, поверьте».
Чего, Александра Александрович, вы на этот-то раз не можете? Вам же ясно грозят «вечно гореть думой» да благословлять дом с землей, по которой ступаете. А не тут-то. «Вечно гореть» - это же тоже своего рода определенность, а определенности мы не переносим. Стихи (а стихи Щеголевой уже пишутся; доподлинно известны, как минимум, три ей посвящения) у Блока получаются лишь из НЕопределенности.
Кульминация их отношений - а мы считаем себя вправе говорить все-таки именно об отношениях - эпизодических, но отношениях - приходится на 1910-11 годы. Он традиционно топчется ночами около дома Щеголевой, думает: пойти, не пойти? - и: «сегодня - всё, что осталось от моей молодости -Ваше. И НЕ ИДУ. Но услышьте, услышьте меня - сейчас». Ах, этот фирменный блоковский стиль - кружить под окнами, не идти и хвастать этим!
А еще - предлагать каждой первой «всё, что осталось». Записями о Блоке полон и дневник Щеголевой. В 1915-м уже году: «Как мучает меня этот великий человек сам не зная того». Вы абсолютно правы, Валентина Андреевна: мучить -главный талант этого великого человека. Мучить и мучиться.
К чему мы это? Да только к тому, что тогда, в мае 1908-го у Блока не было ни морального права, ни сиюминутного резона не прощать Любовь Дмитриевну. Царственным жестом он отпустил ей грех прелюбодеяния и только что не сам собрал в дорогу.
И тут очень хочется выдержать академическую мхатовскую паузу. Нам вновь грех не вспомнить анонимного автора всей этой драмы. В точном соответствии со сценическим законом обострения предлагаемых обстоятельств он обостряет их на всю катушку - Люба беременна. Но она не раскрыла Блоку этой тайны и 18 мая уехала на Кавказ. И в «предельном, беспомощном отчаянии», «зажмурившись», три долгих месяца нелепо «прожигала жизнь» в Грозном, в Тифлисе, в Боржоме...
Лето 1908-го - жесточайший кризис семейных отношений Блоков. Невозможность встретиться лишь усугубляет его. Физическая разлука стала для поэта естественным выражением общего неблагополучия отношений с женой. 24 июня: «Знаешь ли, мы не виделись пять месяцев (нельзя же считать твои приезды) и до этого - 1 У года». Однажды поставив жирный крест на возможности совместного счастья, они научились по возможности безболезненно обретать свои счастья поодиночке. Автономно друг от друга. Так было и на этот раз.
В мае, буквально избавившись от присутствия супруги и отослав Щеголевой свое трогательное «НЕ МОГУ», Блок уезжает в Шахматово. Одиноко селится в стареньком флигельке, утопающем в сирени. Спускается к тихой Лутосне и там подолгу лежит в траве. Быть вскоре этой ручьеподобной речушке и Непрядвой, и Доном! Тут у него опять пошли стихи. Они знакомы нам теперь под названием «На Поле Куликовом».
Всё смешалось в них - Россия, Люба, Н.Н....
Закат в крови! Из сердца кровь струится!
Плачь, сердце, плачь...
Покоя нет! Степная кобылица
Несется вскачь!
В черновых набросках сохранилась строфа, не вошедшая в окончательную редакцию:
И вечно - бой! И вечно будет сниться
Наш мирный дом.
Но - где же он? Подруга! Чаровница!
Мы не дойдем?
Интересно, что проходили бы мы в школе, не умолчи Люба в ту их майскую встречу о главном.
Переписка лета 1908-го необыкновенно интенсивна, тревожна и нежна одновременно. Несмотря ни на что и вопреки всему они намерены остаться вместе. Эта перспектива, правда, пугает обоих. Но альтернативы ей Блоки не видят. Что руководило Любовью Дмитриевной нам теперь более или менее понятно. Что правило Блоком - угадывайте сами.
Мы умолкаем. Мы предлагаем вам самим услышать за строками переписки того лета голоса всё едино родных дружка дружке Александра Александровича и Любови Дмитриевны.
Она (из Грозного): «Милый мой, мне сейчас показалось, что ты думаешь обо мне, и мне стало очень грустно и за тебя, и за себя, за все. знаю, что дорого заплачу болью и страданием за каждое свободное движение, за дерзость». Чуть позже из Боржома: «Как же? Как же? что же все это такое? Хорошо, что я буду одна долго, бесконечно, все уляжется. ты единственная моя надежда, и на краю света мне не уйти от тебя».