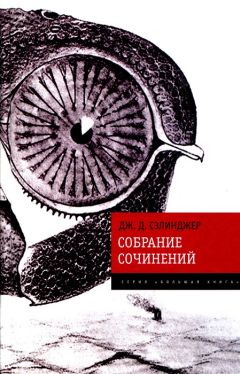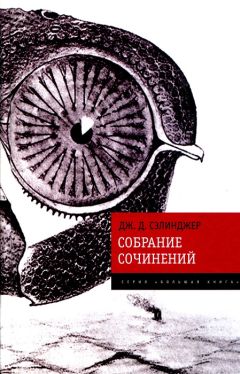Джером Сэлинджер - Повести о Глассах
Зуи не отвечал.
– Господи! – сказал он, не сводя глаз с нот на пюпитре. – Кто это выкопал?
Пьеса называлась «Не скупись, послушай, детка». Она была примерно сорокалетней давности. На обложке красовался рисунок сепией с фотографии мистера и миссис Гласс. Мистер Гласс был в цилиндре и во фраке, миссис Гласс – тоже. Оба ослепительно улыбались в объектив, и оба, наклонясь вперед и широко расставив ноги, опирались на тросточки.
– А что это? – сказала Фрэнни. – Мне не видно.
– Бесси и Лес. «Не скупись, послушай, детка».
– А! – Фрэнни хихикнула. – Вчера вечером Лес Предавался Воспоминаниям. В мою честь. Он думает, что у меня расстройство желудка. Все ноты из шкафа вытащил.
– Хотел бы я знать, как это мы все очутились в этой чертовой ночлежке, если все началось с «Не скупись, послушай, детка». Поди пойми.
– Не могу. Я уже пробовала, – сказала Фрэнни. – Расскажи про сценарий. Ты его получил? Ты говорил, что этот самый Лесаж или как его там собирался оставить его у швейцара по дороге…
– Получил, получил, – сказал Зуи. – Мне неохота его обсуждать.
Он сунул сигару в рот и принялся правой рукой наигрывать в верхних октавах мотив песенки под названием «Кинкажу», успевшей, что любопытно, стать популярной и позабыться еще до того, как Зуи родился.
– Я не только получил сценарий, – сказал он. – Еще и Дик Хесс позвонил вчера около часу ночи – как раз после нашей с тобой маленькой потасовки – и пригласил меня выпить, скотина. В Сан-Ремо. Он Открывает Гринич-Вилледж. Боже правый!
– Не колоти по клавишам, – сказала Фрэнни, глядя на него, – Если ты собираешься там сидеть, то я буду давать тебе указания. Вот мое первое указание: не колоти по клавишам.
– Во-первых, он знает, что я не пью. Во-вторых, он знает, что я родился в Нью-Йорке, и если есть что-нибудь на свете для меня совершенно невыносимое, так это «местный колорит». В-третьих, он знает, что я живу за семьдесят кварталов от его Вилледж, черт побери. И в-четвертых, я ему три раза сказал, что я уже в пижаме и в домашних туфлях.
– Не колоти по клавишам, – приказала Фрэнни, гладя Блумберга.
– Так нет, дело было неотложное. Ему надо было видеть меня немедленно. Чрезвычайно важно. Не ломайся, слышишь! Будь человеком хоть раз в жизни, прыгай в такси и кати сюда.
– И ты покатил? И крышкой тоже не грохай. Это мое второе…
– Ну да, конечно же, я покатил! Нет у меня этой треклятой силы воли! – сказал Зуи. Он закрыл крышку сердито, но без стука. – Моя беда в том, что я боюсь за всех этих провинциалов в Нью-Йорке. И мне плевать, сколько времени они тут пробыли. Я вечно за них трясусь – как бы их не переехали или не избили до полусмерти, пока они рыщут в поисках мелких армянских ресторанчиков на Второй авеню. Да мало ли еще какая хреновина случится. Зуи мрачно пустил клуб дыма поверх страниц «Не скупись…».
– В общем, я-таки туда поехал, – сказал он. – Там уже, конечно, сидит старина Дик. Такой убитый, такой расстроенный, до того набитый важными новостями, которые не могут подождать до завтра. Сидит за столом в джинсах и жуткой спортивной куртке. Этакий изгнанник с берегов Де Мойн в Нью-Йорке. Я его чуть не прикончил, ей-богу. Ну и ночка! Я сидел там битых два часа, а он мне выкладывал, какой я умнейший сукин сын и что вся моя семья – сплошь гениальные психотики и психопаты. И т у т – когда он наконец кончил психоанализировать меня, и Бадди, и Симора, которых он в глаза не видал, и когда он наконец уперся в какой-то умственный тупик, решая, быть ему до конца вечера чем-то вроде Колетт, которая одинаково бьет правой и левой, или вроде маленького Томаса Вулфа, – тут он вдруг вытаскивает из-под стола роскошный портфель с монограммой и сует мне в руки новенький сценарий часового фильма.
Зуи махнул рукой, словно отмахиваясь от надоевшей темы. Но он встал с табуретки слишком быстро, так что этот жест вряд ли можно было счесть прощальным. Сигару он держал во рту, а руки засунул в карманы брюк.
– Я годами слушал, как Бадди рассуждает об актерах, – сказал он. – Боже мой, послушал бы он, что я могу ему рассказать о Писателях, Которых Я Знал.
Он с минуту постоял на месте, затем двинулся вперед без видимой цели. Остановился у «Виктролы» образца 20-го года, бессмысленно воззрился на нее и гавкнул в трубу два раза подряд, для собственного удовольствия. Фрэнни засмеялась, глядя на него, а он нахмурился и пошел дальше. У водруженного на радиоприемник «Фрешмен» 1927 года аквариума с рыбками он вдруг остановился и вынул ситару изо рта. Он с явным интересом заглянул в аквариум.
– Все мои черные моллинезии вымирают, – сказал он и машинально потянулся к баночке с кормом, стоявшей возле аквариума.
– Бесси их утром кормила, – вмешалась Фрэнни. Она продолжала гладить Блумберга, все еще насильно приучая его к трудному и сложному миру вне теплого вязаного пледа.
– У них голодный вид, – сказал Зуи, но убрал руку от рыбьего корма. – Вот этот малый совсем отощал. – Он постучал по стеклу ногтем. – Куриный бульон – вот что тебе нужно, приятель.
– Зуи, – окликнула Фрэнни, чтобы отвлечь его. – Как твои дела все-таки? У тебя два сценария. А о чем тот, что тебе завез на такси Лесаж?
Зуи еще с минуту неотрывно смотрел на рыбку. Потом, повинуясь внезапному, но, как видно, непобедимому капризу, растянулся на ковре лицом вверх.
– В том, что прислал Лесаж, мне предлагают играть некоего Рика Чалмерса, – сказал он, закидывая ногу на ногу. – Могу поклясться, что это салонная комедия образца тысяча девятьсот двадцать восьмого года, готовенькая как на заказ по каталогу Френча. Разве что роскошно осовремененная болтовней о комплексах, подавленных желаниях и сублимации, и все это на жаргоне, который автор перенял у своего психоаналитика.
Фрэнни смотрела на Зуи, точнее на то, что ей было видно. С того места, где она сидела, были видны только подошвы и каблуки его ботинок.
– Ну, а то, что написал Дик? – спросила она. – Ты уже читал?
– А у Дика я могу играть Верни, чувствительного дежурного из метро. В жизни не приходилось читать такой чертовски оригинальной и смелой пьесы для телевидения.
– Правда? Значит, это так здорово?
– Я не говорил – здорово, я сказал – смело. Давай на этом, брат, и помиримся. Наутро после выпуска в эфир все на телевидении будут бегать и хлопать друг друга по плечам, довольные до потери сознания. Лесаж. Хесс. Помрой. Заказчики. Вся смелая команда. А начнется это уже сегодня. Если уже не началось. Хесс войдет в кабинет Лесажа и скажет: «Мистер Лесаж, сэр, есть у меня новый сценарий про чувствительного молодого дежурного из метро, от него так и разит смелостью и первозданной чистотой. А насколько мне известно, сэр, после Нежных и Душещипательных сценариев вы больше всего любите сценарии, полные Смелости и Чистоты. А в этом сценарии, честное слово, от Чистоты и Смелости просто не продохнешь. Он весь набит слезливыми и слюнявыми типами. В нужных местах и жестокости хватает. И как раз тогда, когда душевно тонкий дежурный из метро совсем запутался в своих моральных проблемах и его вера в человечество и в Маленьких людей рушится, из школы прибегает его девятилетняя племянница и выдает ему порцию славной, доморощенной шовинистической философии, которая перекочевала к нам из прошлого прямиком от выросшей в глуши жены Эндрю Джексона. Бьет без промаха, сэр! Он такой приземленный, такой простенький, такой высосанный из пальца и притом достаточно привычный и заурядный, что наши жадные, издерганные, невежественные заказчики непременно его поймут и полюбят».
Зуи вдруг резко приподнялся и уселся на ковре.
– Я только что из ванны, весь в поту, как свинья, – пояснил он. Он встал и исподволь, словно против воли, бросил взгляд в сторону Фрэнни. Он совсем было отвел глаза, но вместо этого стал внимательно в нее вглядываться. Опустив голову, она смотрела на Блумберга, который лежал у нее на коленях, и продолжала его гладить. Но что-то переменилось.
– Ага, – сказал Зуи и подошел к дивану, явно напрашиваясь на скандал. Леди шевелит губками. Настал час Молитвы.
Фрэнни не поднимала глаз.
– На кой черт тебе это понадобилось? – спросил он. – Спасаешься от моего нехристианского отношения к художественному ширпотребу?
Фрэнни подняла глаза и закивала головой, моргая. Она улыбнулась брату. Губы у нее и вправду безостановочно двигались.
– И ты мне не улыбайся, пожалуйста, – сказал Зуи спокойным голосом и отошел от дивана. – Симор вечно мне улыбался. Этот проклятый дом кишит улыбчатыми людьми. – Он мимоходом, почти не глядя, ткнул большим пальцем в какую-то книжку, наводя порядок на книжной полке, и прошел дальше. Подошел к среднему окну, отделенному широким подоконником от столика из вишневого дерева, за которым миссис Гласс просматривала счета и писала письма. Он стоял спиной к Фрэнни и смотрел в окно с сигарой в зубах, засунув руки в карманы.