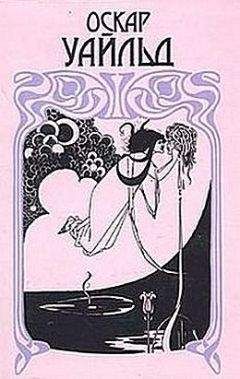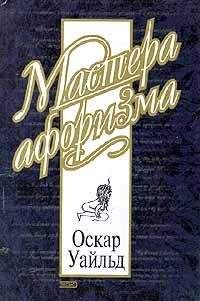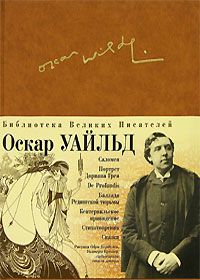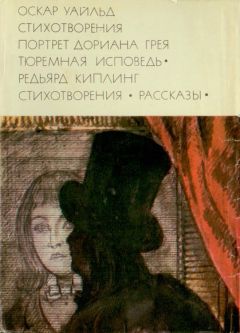Оскар Уайльд - Исповедь: De Profundis
И все же должен тебе сказать, что если положить на одну чашу весов тебя, а на другую – одно-единственное мгновение моего заточения, то твоя чаша взлетит кверху, как перышко. Ты избрал свою чашу весов, подталкиваемый самовлюбленностью и тщеславием, и ты цепляешься за нее, руководимый ими же.
Нашей дружбе был свойственен серьезнейший психологический изъян – абсолютное отсутствие пропорции. Ты пробрался в жизнь человека, слишком просторную для тебя; в жизнь человека, вращающуюся по орбите, намного превышающей по широте интеллектуального кругозора орбиту твоей собственной жизни; в жизнь человека, чьим помыслам, чувствам и деяниям присущи высокие интересы и цели; в жизнь человека, исполненную (может быть, чересчур) чудесного (может быть, трагического?) предназначения. Ты же вел вполне заурядную жизнь с заурядными потребностями и интересами, и по меркам твоего узкого круга твою жизнь можно было считать идеальной. Таковой она была и в Оксфорде, где самое худшее, что может грозить студенту, – это нагоняй от декана или назидание от ректора колледжа, а самая великая для него радость – это победа команды его колледжа в университетских соревнованиях по гребле и костер во дворе колледжа в честь этого выдающегося события.
После ухода из университета тебе следовало бы и дальше жить привычной для тебя жизнью в привычном для тебя окружении. Сам по себе ты был ничем не хуже других.
Ты являл собой типичный образчик современного молодого человека. Вот только со мной ты поступал не очень-то образцово.
Твою безрассудную расточительность нельзя считать преступлением. Юность всегда расточительна. Но все дело в том, что ты был расточительным за счет моего кармана, – а это уже постыдно. Твое желание приобрести себе друга, с которым ты проводил бы весь день, с раннего утра до позднего вечера, вызывало сочувствие и было почти трогательным. Но ты не должен был останавливать свой выбор на писателе, на творческой личности – то есть на человеке, для которого твое постоянное присутствие оказалось губительным, ибо парализовало его творческие способности и мешало ему создавать прекрасные произведения искусства.
Ты совершенно искренне считал, что идеально проведенный вечер означает обед с шампанским в «Савое», затем, после обеда, мюзик-холл с местами в отдельной ложе, а под конец, в качестве bonne bouche,[208] – ужин с шампанским в ресторане «Уиллис». Ничего плохого в этом, в общем-то, нет. Тысячи светских молодых людей в Лондоне проводят так свои вечера. Это нельзя считать чем-то таким уж экстравагантным. Более того, это одно из обязательных качеств, без которых невозможно стать членом клуба «Уайтс».
Но ты не должен был требовать от меня, чтобы я обеспечивал тебя подобными развлечениями. В этом проявилось твое полное неуважение ко мне как к художнику.
А твоя ссора с отцом, даже если забыть о ее неприглядном характере, должна была касаться только вас двоих, и никого больше. Такие ссоры обычно происходят за надежно запертыми дверьми и плотно закрытыми окнами. Твоя ошибка состояла в том, что тебе непременно нужно было сделать из нее трагикомедию и разыграть ее на высоких подмостках театра, называемого Историей, и перед зрителями, являющими собой весь мир. Я же разыгрывался в качестве своего рода награды, которая должна была достаться победителю в этом недостойном состязании.
Но тот факт, что твой отец не выносил тебя, а ты терпеть не мог своего отца, был безразличен широкой английской публике. Подобные чувства вполне обычны в семейной жизни англичан и не должны выплескиваться за пределы домашнего очага. Им не место вне семейного круга, и делать их общим достоянием публики – преступление. Семейная жизнь – это не красный флаг, которым размахивают на улицах, и не труба, в которую громко трубят на ярмарке.
Ты вынес свои семейные отношения за пределы домашнего очага подобно тому, как и сам покинул пределы среды, к которой принадлежал. А ведь те, кто покидает привычную им среду, меняют лишь окружение, а не свои природные склонности. Они не в состоянии проникнуться мыслями или чувствами той среды, в которую вступают, даже если бы и хотели.
Эмоциональные возможности человека, как сказано где-то в моих «Замыслах»,[209] так же ограничены по продолжительности и интенсивности, как и его физические возможности.
Маленький винный бокал вмещает ровно столько вина, сколько может вместить, ни каплей больше, даром что все бочки в винных погребах Бургундии наполнены до краев вином, а давильщики винограда, собранного на каменистых плато Испании, по колени утопают в виноградном соку.
Думать, будто те, кто стал причиной трагедии в жизни других людей, разделяют с ними их скорбь, или ждать от них этого – это самое большое и в то же время самое распространенное заблуждение. Быть может, мученику, объятому «плащом из языков пламени», и дано узреть лик Божий, но для того, кто подбрасывает хворост в костер или пошевеливает поленья, чтобы ярче разгорелось пламя, страдания мученика так же безразличны, как для мясника смерть быка, которого он убил, для лесоруба – уничтожение дерева, которое он срубил, а для косаря – гибель цветка, который он скосил вместе с травой. Великие чувства могут испытывать только те, кто велик душой, а великие события могут увидеть только те, кто дорос до их уровня.
Во всей драматургии не найти ничего более совершенного с эстетической точки зрения и более психологически точного, чем созданные гением Шекспира образы Розенкранца и Гильденстерна. Они университетские товарищи Гамлета. Они всегда были его друзьями. Они дорожат воспоминаниями о счастливых днях, проведенных вместе. По ходу действия пьесы они встречаются с Гамлетом в ту минуту, когда тот ошеломлен внезапно обрушившейся на него ношей, непосильной для человека с его тонкой душевной организацией.
Восставший из мертвых король, его отец, взвалил на него миссию, столь же сложную, сколь и тягостную для юноши. Гамлет по природе своей – мечтатель, а его призывают к действию. Он по складу души – поэт, а от него требуют распутать коварные хитросплетения причин и следствий, для чего ему придется столкнуться с реальным миром, о котором он ничего не знает, ибо живет в нереальном мире, о котором знает так много. Он не представляет себе, что делать, и в безрассудстве своем ведет себя так, будто лишился рассудка. Притворявшийся помешанным Брут[210] скрывал под плащом безумия острый меч своего вероломного замысла, кинжал своей несокрушимой воли, но для Гамлета безумие – всего лишь маска, скрывающая слабость его духа.
В паясничанье и фиглярстве он видит возможность уйти от необходимости решительных действий.
Уклоняясь от них, он играет с ними, подобно тому как художник играет с новомодными эстетическими теориями. Он оценивает правильность своих собственных действий, как бы шпионя за самим собой; он прислушивается к своим собственным словам, понимая, что это всего лишь «слова, слова, слова». Вместо того чтобы попытаться стать героем своей собственной истории, он удовлетворяется ролью зрителя своей собственной трагедии. Он никому и ничему не верит, в том числе самому себе, но его неверие не помогает ему, ибо порождено оно не скептицизмом, а нерешительностью.
Розенкранц и Гильденстерн даже не догадываются обо всем этом. Они только и делают, что раскланиваются со всеми, всем расточают улыбки, любезничают со всеми, и то, что произносит один из них, тут же повторяет другой, только с еще более слащавыми интонациями. И когда Гамлет, разыграв с помощью бродячих актеров спектакль внутри спектакля, ловит наконец в «мышеловку»[211] совесть короля (своего дяди и отчима), и несчастный в ужасе отрекается от трона, Гильденстерн и Розенкранц усматривают в поведении Гамлета всего лишь досадное нарушение придворного этикета. Это предел «проницательности», которую они способны проявить, присутствуя на «спектакле жизни» и реагируя на происходящее подобающими эмоциями.
Тайна Гамлета – под самым их носом, но они даже не догадываются о ней. Да и открывать ее этой парочке было бы бесполезно – они все равно ничего бы не поняли. Их можно уподобить маленьким винным бокалам, вмещающим ровно столько вина, сколько они могут вместить, – ни каплей больше.
Ближе к развязке пьесы нам дают понять, что, попавшись в силки, расставленные для другого, они умерли – или, по крайней мере, должны были умереть – внезапной и насильственной смертью.
Но трагический финал такого рода, несмотря на то, что гамлетовское чувство юмора и придало ему оттенок неожиданного и справедливого возмездия, присущий комедиям, на самом деле не является концом для Гильденстерна и Розенкранца. Такие, как они, не умирают.
Горацио, сдавшись на уговоры Гамлета:
«…Нет, если ты мне друг, то ты на время поступишься блаженством. Подыши еще трудами мира и поведай про жизнь мою»,[212] – все же умирает, хотя и не на глазах у публики, и после него никого не остается, даже брата. Но Гильденстерн с Розенкранцем так же бессмертны, как Анджело[213] с Тартюфом, причем все они стоят друг друга. Они олицетворяют собой то, что современная жизнь привнесла в античный идеал дружбы. Тот, кто напишет новый трактат «De Amicitia»,[214] должен уделить им видное место в своем творении и воздать им хвалу, прибегнув к лучшим образцам тускуланской прозы.[215]