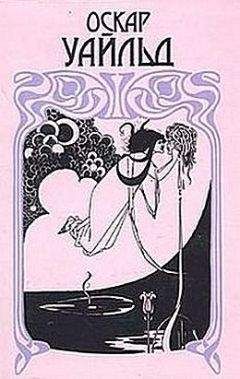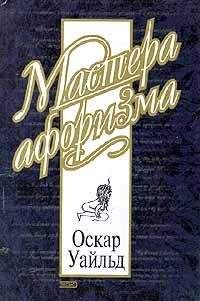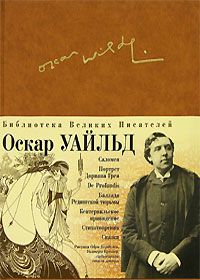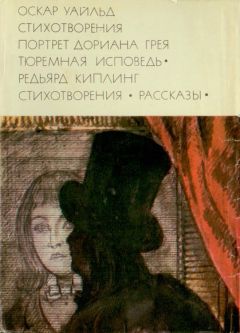Оскар Уайльд - Исповедь: De Profundis
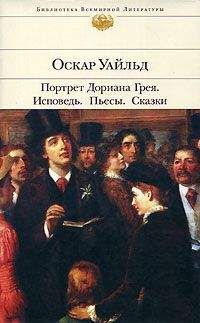
Обзор книги Оскар Уайльд - Исповедь: De Profundis
Оскар Уайльд
Исповедь: De Profundis
Предисловие Роберта Росса[1] к первому изданию «De Profundis»[2]
О существовании хранящейся у меня рукописи «De Profundis» знали многие, поскольку автор не раз упоминал о ней в разговоре с друзьями. Неудивителен поэтому всеобщий интерес, проявлявшийся к этому произведению. Думаю, «De Profundis» не нуждается в подробном вступлении или в каких-то особых комментариях. Я хотел бы обратить внимание читателя лишь на тот факт, что исповедь эта написана моим другом в последние месяцы его тюремного заключения и что это единственное произведение, созданное им в стенах тюрьмы, да и вообще его последнее прозаическое произведение.
Что касается «Баллады Редингской тюрьмы», то она была им задумана и написана уже после выхода на свободу.
В направленном мне из тюрьмы письме с инструкциями относительно публикации «De Profundis» Оскар Уайльд, в частности, писал:
«Я вовсе не стараюсь оправдать свое поведение, я просто объясняю его. Кроме того, во многих местах своей исповеди я пишу о той духовной эволюции, которая произошла со мной за годы тюремного заключения, и о неизбежных в силу этого изменениях в моем характере и моих взглядах на жизнь. Я хочу, чтобы ты и те остальные мои друзья, кто остается на моей стороне и сохраняет доброе ко мне отношение, могли бы лучше представить, с каким психологическим настроем и с каким лицом я собираюсь вновь предстать перед миром.
Разумеется, я полностью отдаю себе отчет в том, что, когда меня выпустят на свободу, я, в определенном смысле, попросту перейду из одной в другую тюрьму. Бывают моменты, когда весь мир представляется мне столь же тесным, как моя тюремная камера, и я с ужасом думаю о том, что ожидает меня впереди. Утешением мне служит лишь мысль, что Господь, создавая нашу вселенную, дал каждому из нас свой собственный мир и что именно в этом мире, который существует в каждом из нас, нам и следует жить.
Думаю, что ты будешь читать мою исповедь с большей степенью понимания и с меньшей болью, чем другие. И конечно, нет нужды напоминать тебе, насколько мимолетны мои мысли – как, впрочем, и у всех людей – и из какой эфемерной материи состоят наши чувства. В то же время я отчетливо вижу, в каком направлении – конечно, только через Искусство – будет изменяться в дальнейшем моя душа.
Тюремная жизнь помогает увидеть людей и то, что движет ими, в истинном свете. Именно поэтому начинаешь ощущать себя каким-то окаменевшим. Люди, живущие во внешнем мире, пребывают в плену иллюзии, будто жизнь – это непрерывное движение. Они вращаются в водовороте событий и поэтому живут в нереальном мире. Лишь нам, живущим в неподвижности заточения, дано видеть и знать.
Поможет ли моя исповедь натурам со слишком узкими взглядами или, напротив, тем, у кого слишком пылкое воображение, я не знаю, но мне самому стало неизмеримо легче, когда я излил все наболевшее на бумаге. Наконец-то я «очистил свою душу от всего того, что тяготило ее». Ты и сам знаешь, что для художника нет ничего важнее, чем иметь возможность каким-то образом выразить себя. Лишь «самовыражаясь» мы и можем существовать. Я обязан начальнику тюрьмы очень многим, но более всего я благодарен ему за то, что он дал мне возможность писать тебе, не ограничивая меня объемом написанного. Почти два года во мне накапливался невыносимый груз горечи, и вот теперь я смог хотя бы отчасти облегчить свою ношу.
С другой стороны тюремной стены растут несколько жалких, черных от копоти деревьев, и сейчас на них распускаются почки, из которых начинают появляться ослепительно зеленые листья. Деревья эти с наступлением весны тоже получили возможность «самовыразиться»».
В «De Profundis» с удивительной искренностью и разящей сердце болью переданы душевные переживания художника – натуры в высшей степени интеллектуальной, возвышенной и в то же время крайне ранимой, – художника, подвергнутого обществом остракизму и униженного тюремным заключением. Хотелось бы надеяться, что читатели смогут теперь по-иному взглянуть на блистательного писателя и необыкновенно остроумного человека, каким был Оскар Уайльд.
1905 год
«Epistola: in carcere et vinculis»[3]
Тюрьма Ее Величества, Рединг, январь – март 1897 г.
Дорогой Бози![4]
После долгого, но, увы, тщетного ожидания твоих писем я решил написать тебе первым – и ради тебя, и ради себя самого, ибо мне невыносима мысль, что за целых два года заточения я не получил от тебя ни единой строчки и не имел никаких новостей о тебе, за исключением тех, что причинили мне боль.
Наша роковая и столь злосчастная дружба завершилась для меня катастрофой и публичным позором. Тем не менее память о нашей прежней привязанности все так же во мне жива, и мне было бы грустно думать, что может наступить такое время, когда ненависть, горечь и презрение займут в моем сердце место, принадлежавшее в прошлом любви. Думаю, ты и сам в душе понимаешь, что лучше написать мне сюда, в эту обитель тюремного одиночества, чем без данного мной разрешения публиковать мои письма или, хотя я не просил тебя об этом, посвящать мне стихи, тогда как в случае, если ты мне напишешь в тюрьму, мир ничего не узнает о том, какие слова, исполненные скорби или страсти, раскаяния или равнодушия, ты выберешь для своего ответа, в каких выражениях воззовешь к моим чувствам.
У меня нет сомнений, что в этом моем послании, в котором я собираюсь говорить о твоей и о своей жизни, о нашем прошлом и будущем, о приятных вещах, ныне воспринимаемых с горечью, и о горьких вещах, вспоминаемых теперь с удовольствием, ты найдешь много такого, что может больно ранить твое самолюбие.
Если это и в самом деле окажется так, то ты должен перечитывать мое письмо до тех пор, пока оно не убьет в тебе это твое пресловутое самолюбие.
Если же ты найдешь в нем нечто такое, в чем, на твой взгляд, тебя обвиняют несправедливо, то тебе следует вспомнить простую истину: человек должен радоваться, что есть еще такие грехи, в которых он не повинен. Ну а если хоть одна фраза в моем письме вызовет у тебя слезы – что ж, плачь, как плачем все мы в нашей тюрьме, где днем, точно так же как ночью, нам только и остается, что проливать слезы. Только так ты можешь спасти себя.
Но если ты снова отправишься к своей матери жаловаться на меня (как это было в том случае, когда я с презрением отозвался о тебе в своем письме к Робби), с тем чтобы она льстивыми утешениями вернула тебе прежнее самомнение и самодовольство, ты окончательно погубишь себя. Стоит тебе найти хоть одно ложное оправдание для себя, как тотчас же ты найдешь еще сотню, и в результате останешься точно таким, каким был всегда.
Неужели ты по-прежнему утверждаешь, как это следует из твоего ответа на письмо Робби, будто я «приписываю тебе недостойные побуждения»? Полно тебе: никаких побуждений у тебя никогда и не было. Ненасытная жажда удовольствий – вот весь смысл твоей жизни. А побуждения – это ведь духовные устремления. Должно быть, ты также считаешь, что был «слишком молод», когда началась наша дружба? Но твой недостаток заключался не в том, что ты знал слишком мало о жизни, а скорее в том, что ты знал о ней слишком много. К тому времени ты уже оставил далеко позади утреннюю зарю ранней юности в ее нежном цветении, с ее ясным и чистым светом, ее невинностью и радостным предвкушением того, что грядет впереди. Ты стремительно промчался мимо романтики прямо в реальность.
Сточная канава и ее обитатели – вот что привлекало тебя. Это и было причиной тех неприятностей, попав в которые ты искал моей помощи, ну а я, побуждаемый жалостью к тебе и добротой своей, поспешил тебя выручить, поступив, по мудрому мнению света, очень немудро.
Ты должен прочитать это письмо до конца, пусть даже каждое слово в нем и покажется тебе обжигающим пламенем или острым хирургическим скальпелем, от которых дымится или кровоточит нежная плоть. Помни, что тот, кого люди считают глупцом, необязательно выглядит таковым в глазах богов. Даже если кто-то ничего не ведает об Искусстве во всем разнообразии его форм или о причудливых поворотах Мысли в ее многовековом развитии; если он никогда не слышал о величавости латинского стиха или о сладкозвучности эллинской речи; если он даже не подозревает о древней тосканской скульптуре или о елизаветинской песенной поэзии, – этот человек тем не менее может быть преисполнен величайшей мудрости.
Истинный же глупец, над кем потешаются боги, – это тот, кто не сумел познать самого себя. Я и сам был таковым, причем слишком долго. Ты же остался таковым до сих пор. Так не будь же больше глупцом. И не нужно ничего бояться.
Самый большой порок человека – поверхностность ума. Во всем, что происходит в жизни человека, есть свой глубокий смысл. Учти также еще одно: как бы мучительно тебе ни было это читать, еще мучительнее мне это излагать на бумаге.