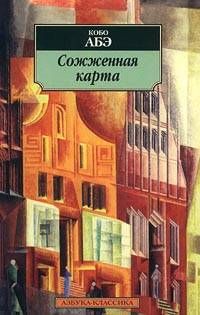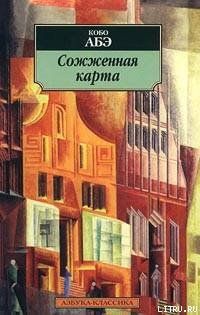Хулио Кортасар - Счастливчики
— Красивый вечер, — сказал Лопес, не составивший еще о ней мнения. — Вас не укачало?
— Чтобы меня укачало? — возмутилась Беба. — Я даже таблеток не пью. Меня никогда не укачивает.
— Вот это — по мне, — сказал Лопес, для которого тема была исчерпана. А Беба ждала другого, уж во всяком случае, чтобы остановился и поболтал с ней. Глядя, как он уходит, махнув ей рукой на прощание, Беба показала ему язык, когда убедилась, что он ее уже не видит. Глупый, но симпатичнее, чем Медрано. Из всех ей больше всего нравился Рауль, но им завладели Фелипе и все остальные, просто до неприличия. Он немного был похож на Вильяма Холдена, нет, пожалуй, на Жерара Филипа. Нет, и даже не на Жерара Филипа. Он такой изящный, и рубашки такие шикарные, да еще трубка. Эта женщина не достойна такого парня.
Эта женщина была в баре и пила у стойки джин-фисс.
— Как ваша экспедиция? Приготовили черный флаг и ножи на случай абордажа?
— Зачем? — сказал Лопес. — Нам нужнее ацетиленовая горелка, чтобы вскрыть пневматические двери, и шестиязычный словарь — объясняться с глицидами. Рауль вам не рассказывал?
— Я его не видела. Расскажите вы.
Лопес рассказал и воспользовался случаем — с удовольствием высмеял себя, не пожалев и двоих своих приятелей. Рассказал он и о том, какую осторожную позицию заняли старики, и оба согласно улыбнулись. Бармен готовил вкуснейшие джин-фиссы, и по соседству не было никого, кроме Атилио Пресутти, который пил пиво и читал «Ла Канчу». А что Паула делала весь день? Да так, купалась в неописуемом бассейне, смотрела на горизонт, читала Франсуазу Саган. Лопес заметил у нее тетрадку в зеленой обложке. Да, иногда она что-нибудь записывала или писала. Что писала? Да так, стихи.
— Не надо признаваться в этом так, словно вы провинились, — сказал Лопес встревоженно. — Что происходит с аргентинскими поэтами, почему они прячутся? У меня два друга — поэты, один — очень хороший, и оба — как вы: тетрадку прячут в кармане, а у самих вид — как у Грэма Грина, которого преследует Скотланд Ярд.
— О, это никому уже не интересно, — сказала Паула. — Мы пишем для себя и для такой незначительной группки людей, которая не представляет никакого интереса для статистики. Вы же знаете, теперь значимость каждой вещи следует определять статистически. При помощи таблиц и прочего.
— Это неправда, — сказал Лопес. — И если поэт станет вести себя таким образом, то первой жертвой падет его поэзия.
— Но ведь ее же никто не читает, Ямайка Джон. Только друзья — по долгу дружбы, и лишь иногда стихотворение находит читателя, для которого оно прозвучит как призыв или призвание. И этого вполне хватает, чтобы продолжать писать. Но вы совсем не обязаны просить показать вам стихи. Может, когда-нибудь я сама покажу их вам. Так лучше, правда?
— Правда, — сказал Лопес. — Тем более если это когда-нибудь настанет.
— Чуть-чуть это будет зависеть от нас обоих. В данный момент я настроена довольно оптимистично, но, кто знает, что принесет завтрашний день, как сказала бы сеньора Трехо. Видели, какая у нее физиономия?
— Очень трогательная, — сказал Лопес, не имевший никакого желания говорить о сеньоре Трехо. — Как будто с рисунков Медрано, но не нашего друга Медрано, а карикатуриста. Я только что обменялся парою слов с ее юной дочерью, она сидит на ступеньках на носовой палубе, смотрит, как наступает ночь. Этой девочке здесь будет скучно.
— Здесь, как и в любом другом месте. Не надо, не напоминайте мне мои пятнадцать лет, это постоянное гляденье в зеркало, эти… столько разных разностей, все время что-то узнаешь, что потом оказывается чепухой, и страхи, и удовольствия, одинаково ненастоящие. Вам нравятся романы Розамонд Леман?
— Иногда, — сказал Лопес. — Гораздо больше мне нравитесь вы, нравится разговаривать с вами и смотреть в ваши глаза. Не смейтесь, глаза — вот они, и тут ничего не поделаешь. Весь день я думал, какого цвета ваши волосы, даже когда мы блуждали по этим проклятым коридорам. Какого они цвета, когда мокрые?
— Наверное, похожи на мыльное дерево или на гущу из борща. В общем, нечто довольно противное. Я вам, правда, нравлюсь, Ямайка Джон? Не доверяйтесь первому впечатлению. Спросите Рауля, он меня лучше знает. Среди знакомых у меня дурная слава, что-то вроде la belle dame sans merci[46]. Преувеличение, конечно, на самом деле, моя беда — избыток сострадания к себе самой и к другим. Я кладу монетку в каждую протянутую руку, а в конечном счете выходит скверно. Не расстраивайтесь, я не собираюсь рассказывать вам всю свою жизнь. Сегодня я уже достаточно разоткровенничалась с красивой — красивой и очень доброй — Клаудией. Мне нравится Клаудиа, Ямайка Джон. Скажите, что вам тоже нравится Клаудиа.
— Мне нравится Клаудиа, — сказал Ямайка Джон. — У нее замечательные духи и потрясающий сынишка, и вообще все хорошо, а какой джин-фисс… Давайте еще по одному, — добавил он и положил свою руку на ее. И она не убрала руки.
— Мог бы попросить подвинуться, — сказала Беба. — Грязным ботинком наступил мне на юбку.
Фелипе просвистел два такта мамбо и выскочил на палубу. Он пережарился на солнце, когда сидел на краю бассейна, и теперь в спине и плечах чувствовал озноб, лицо горело. Но все это — тоже путешествие, и свежий вечерний воздух наполнил его радостью. Если не считать стариков, сидевших на самом носу, палуба была пуста. Укрывшись за вентилятором, он закурил сигарету, насмешливо посмотрел на Бебу, уныло застывшую на ступеньках. Сделал несколько шагов, оперся о перила, море было похоже… Бескрайнее море, живое мерцание ртути, педик Фрейлих декламирует, а училка по литературе одобрительно улыбается ему. Размазня поганая, этот Фрейлих. Первый в классе, педик вонючий. «Да, сеньора, я отвечу, сеньора, да, сеньора, принести цветные мелки, сеньора?» А училки, конечно, балдеют от этого подхалима, кругом — десять баллов. Хорошо еще, мужики так легко не балдеют, а их целых четверо, но он все равно получил по десятке, видно, зубрил ночи напролет, до черных кругов под глазами… Но круги-то, наверное, не от зубрежки: Дуррути говорил, что видел Фрейлиха в центре с каким-то важным типом, а у того, должно быть, от денег карманы лопаются. Он их встретил в кондитерской на Санта-Фе, так Фрейлих покраснел, как рак, и не знал, что делать… Наверняка, тот, другой, у них — за мужика, это уж точно. Он знал, как это бывает, с того самого праздничного вечера на третьем курсе, когда они ставили спектакль и он играл роль мужа. Алфиери подошел к нему в антракте и сказал: «Погляди на Виану, до чего хорошенький». Виана был с 3-го «C», еще больше педик, чем Фрейлих, такие позволяют на переменах тискать себя, пинать ногами, кривляются, корчат рожи, и при этом они добрые, надо признать, не жадные, всегда у них в карманах американские сигареты, булавки для галстука. Виана в той пьесе играл девушку в зеленом платье, и его накрасили потрясающе. И видно, ему так понравилось краситься, что он пару раз приходил и в школу с остаткам и туши на ресницах, и такое тут поднималось, визжали женскими голосами, обнимали его, щипали за все места, тискали. Но в тот вечер Виана был счастлив, а Алфиери смотрел на него и все повторял: «Смотри, какой хорошенький, вылитая Софи Лорен». Крутой мужик, этот Алфиери, суровый, классный надзиратель пятикурсников, стоит зазеваться, и сразу чувствуешь его руку на плече, и с такой вроде бы наивной улыбочкой говорит: «Нравятся девочки, парниша?» — и ждет ответа, глядя в сторону, словно его тут нет. И когда в тот раз Виана крутился и как будто высматривал кого-то, Алфиери сказал ему: «Гляди хорошенько, сейчас увидишь, чего он так беспокоится», и тут появился разодетый коротышка — серый костюм, шелковый шейный платок, золотые перстни, а Виана уже поджидает его с улыбочкой и руку положил на пояс, точь-в-точь как Софи Лорен, и Алфиери шепчет Фелипе в самое ухо: «Фабрикант роялей, парниша. Представляешь, какую он ему житуху организует? А тебе не хотелось бы много денег и чтоб тебя возили на автомобиле в Тигре и в Мар-дель-Плата?» Фелипе ничего не ответил, так его увлекла эта картина; Виана с фабрикантом роялей оживленно о чем-то говорили, и фабрикант, похоже, в чем-то упрекал Виану, и тогда Виана чуть приподнял юбку и посмотрел на свои туфли, как будто бы восхищался ими. «Если хочешь, как-нибудь вечерком пойдем погуляем вместе, — сказал ему Алфиери. — Прошвырнемся немного, я тебя познакомлю с женщинами, тебе уже, наверное, нужна женщина… если только тебе не нравятся мужчины, не знаю», и его голос как будто завис в стуке молотков на сцене и в гуле зрительного зала. Фелипе, будто не замечая руки, приобнявшей его плечи, тихонько высвободился и сказал, что ему надо идти готовиться к следующей сцене. Он до сих пор помнил запах светлого табака от дыхания Алфиери, его равнодушное лицо с чуть прикрытыми глазами, выражение которого не менялось даже в присутствии ректора или преподавателей. Он так и не знал, что думать об Алфиери, иногда он казался ему настоящим мужиком, он разговаривал во дворе со своими пятикурсниками, а Фелипе подошел тихонько и услышал: Алфиери рассказывал им, как он трахал одну замужнюю, рассказывал с подробностями, как они пошли в меблирашки, как она сначала боялась, что муж узнает, а муж-то — адвокат, а потом три часа подряд кувыркалась, это слово он повторил несколько раз, Алфиери жутко хвастался своими подвигами, и что он, мол, не дал ей спать ни минутки, и они, мол, не хотели, чтобы ребенок получился, и предохранялись, но это — всегда такая волынка, в темноте надо управляться быстро, а то соскальзывает, брызгает, то в дверь, то в стенку, как они уделали за ночь комнату, вот уборщик-то, наверное, чертыхался… Фелипе не все понимал, но о таком не спрашивают, придет день, сам узнаешь, и все тут. Хорошо еще, Ордоньес не из молчунов, он-то им и показывал разные картинки, у него такие книжки, которые у Фелипе не хватит духу купить, а уж тем более прятать дома, Беба такая пролаза, куда только свой нос не сует, все ящики перероет. Его немного злило, что Алфиери не первый приставал к нему. Разве он похож на педика? Но это дело темное, что тут да как — не очень понятно. Алфиери, например, тоже не похож… Не то что Фрейлих или Виана, на этих просто клейма ставить негде; а он видел пару раз на переменах, Алфиери подступался к мальчишкам со второго или третьего курса с теми же штучками, что и к нему, и всегда это были парни что надо, настоящие, как он, видные. Значит, Алфиери нравились такие, а не шлюшки вроде Вианы или Фрейлиха. И еще он вспомнил, как удивился, когда один раз они вместе ехали в автобусе. Алфиери заплатил за них обоих, хотя, пока стояли на остановке, он вроде бы не заметил его. А когда уселись на заднем сиденье, они ехали в Ретиро, он вдруг стал рассказывать о своей невесте, запросто, что, мол, они должны вечером увидеться, что она учительница и что они, наверное, поженятся, как только найдут квартиру. И говорил тихо, чуть ли не в самое ухо Фелипе, а он слушал с интересом, но немного настороженно, все-таки Алфиери был надзиратель, начальство как-никак, а потом Алфиери помолчал, вроде как тема невесты исчерпана, и вдруг шепнул ему: «Да, че, скоро женюсь, а знал бы ты, до чего мне нравятся мальчишки…» — и опять ему захотелось отодвинуться подальше от этого Алфиери, хотя Алфиери только что откровенничал с ним, как с равным, а что касается мальчишек, так ведь к таким, взрослым мужчинам, как Фелипе, это не относится. Он тогда только глянул на него и улыбнулся через силу, как будто все нормально и такие разговоры для него — дело обычное. С Вианой или Фрейлихом он бы легко управился, сунул разок под дых или еще куда, а Алфиери все-таки надзиратель, тридцатилетний мужчина и крутой вдобавок, адвокатских жен водит в меблирашки.