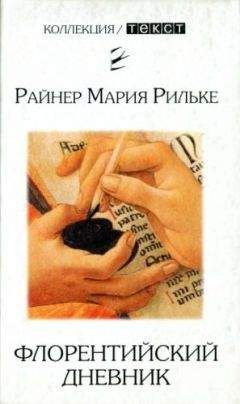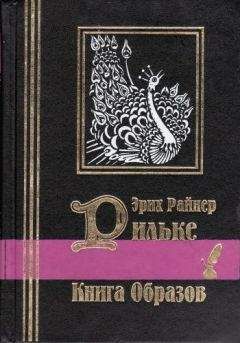Райнер Рильке - Записки Мальте Лауридса Бригге
Тут задумавшийся встает и подходит к окну; комната тесна ему, жмет; ему бы хотелось взглянуть на звезды. Он на свой счет не обманывается. Он знает, что разволновался так оттого, что среди девушек по соседству одна его занимает. Он задумал желанье (не для себя самого, нет, для нее). Это из-за нее он задумался ночью о правах, которые предъявляет любовь. Он ничего ей не скажет. Достаточно и того, что он один на один с ночью, не спит и думает, как права была та, любящая: когда поняла, что из союза двоих лишь растет одиночество: когда рвалась не к заветной черте, но мимо; когда ждала в темноте объятий, чтобы не утолялась, но нарывала тоска; когда презирала то соображенье, что из двоих один должен быть любящим, другой любимым, и увлекала не умевших любить на свое ложе, и подпаляла, и делала любящими, которые ее покидали. В те высокие прощанья вложила она свое сердце. Она пела эпиталамы вечным возлюбленным; славила свадьбы; величила жениха, чтоб они готовили себя для него, как для Бога, и даже такого его превзошли.
Еще раз, Абелона, недавно, я вспомнил тебя и понял тебя после стольких лет, когда совсем о тебе не думал.
Было это в Венеции, осенью, в одном из салонов, где иностранцы мимоездом собираются вокруг хозяйки, тоже иностранки. Они стоят, держа на весу чайные чашки, и радостно вздрагивают всякий раз, как осведомленный сосед украдкой кивает на дверь и вышептывает имя, звучащее по-венециански. Они готовы к самым причудливым именам, их не ошарашишь ничем. Как бы ни был скромен их опыт, в этом городе они с легким сердцем отдаются неслыханному. В повседневности они привыкли смешивать необычайное с запретным, а потому ожиданье чудес, которое они себе вдруг позволяют, ложится на лица печатью распутства. Чувства, какие на родине лишь мгновеньями в них проступают — на концерте, за укромным чтеньем романа, — в здешней будоражащей обстановке они не стесняются выставлять напоказ. Точно так же, как, не подозревая опасности, они окунаются, как в порок, в почти смертельные волны музыки, так, не зная ничего о Венеции, отдаются они оплаченному колыханью гондол. Немолодые супружеские пары, которые все путешествие только и делали, что поддевали друг друга, молча вкушают согласие; муж ощущает приятное утомление от идеалов, она же сбрасывает с себя груз лет и бойко поглядывает на томных туземцев и улыбается без конца, будто зубы у нее сахарные и тают во рту. И если прислушаться, выяснится непременно, что завтра они уезжают, послезавтра, через неделю.
И вот я стоял среди них и радовался, что не уезжаю. Скоро похолодает. Нежная, наркотическая Венеция их притязаний и нужд исчезнет вместе с торжественными иностранцами, и как-то раз поутру здесь встанет другая, чуткая, до ломкости хрупкая, бдящая, не блазнящая. Заложенная на топях, силой вызванная к жизни и упрямо существующая Венеция. Закаленное, до крайности сжатое тело, сквозь которое бессонный арсенал гнал кровь трудов и все ширящийся дух — крепче всех ароматов Аравии. Убедительное государство, выменявшее соль и стекло своей бедности на клады народов. Прекрасный противовес миру, даже и в разукрашенности своей полный скрытой энергии. Такая Венеция.
Я вдруг почувствовал себя среди этих обманывающихся людей до того одиноким, что невольно поискал глазами, с кем бы поделиться моим знанием о Венеции. Неужто тут нет никого, кто жаждал бы, чтобы ему это все втолковали? Юноши, который тотчас бы понял, что здесь нам предложено не удовольствие, но пример воли, такой строгой и властной, какой больше не сыщешь на свете? Я томился. Меня распирала правда. Она требовала выхода, взывала о том, чтобы я ее высказал и отстоял. Лезла в голову несуразица, что вот, не выдержав недоразуменья, я хлопну в ладоши и потребую немедленной тишины.
Дойдя до этого смехотворного состояния, я вдруг увидел ее. Она стояла под слепящим окном и следила за мной, не столько глазами, задумчивыми и серьезными, сколько ртом, который иронически воспроизводил написанное на моем лице раздражение. Я тотчас ощутил глупую натянутость своих черт и напустил безразличие, после чего ее рот сразу стал естественным и гордым. Потом, по недолгом размышлении, мы одновременно улыбнулись друг другу.
Она мне напомнила, если хотите, один юный портрет прекрасной Бенедикты фон Квален, сыгравшей известную роль в жизни Баггесена[133]. Заглянув в спокойную темень этих глаз, нельзя было не догадаться о темных глубинах голоса. Прическа и вырез светлого платья были у нее вдобавок столь явственно копенгагенскими, что я решился к ней обратиться по-датски.
Но я не успел осуществить свое намерение. С дальнего конца залы на нее хлынула толпа. Наша гостеприимная графиня с шумной и пылкой невнимательностью, при поддержке гостей, требовала, чтобы она немедленно спела. Я был уверен, что девушка отговорится тем, что едва ли здесь кому интересно датское пение. Так она и сделала, когда ей дали открыть рот. Но на нее наседали все больше. Кому-то было известно, что она и по-немецки поет. «И по-итальянски», — не без коварства прибавил смеющийся голос. Я не мог придумать для нее больше ни одной отговорки, но был уверен, что она выстоит. Кислая оскорбленность уже разливалась по лицам, уставшим от долгих улыбок. Добрая графиня уже отступала с видом сожаления и достоинства, и тут, когда вовсе не надо было, она вдруг сдалась. Я почувствовал, что бледнею от досады. Не в силах погасить в глазах упрек, я отвернулся — ей незачем было его видеть. Но она отделилась от остальных и оказалась рядом. Меня окатило сверканием ее платья, ее цветочным запахом и теплом.
— Я правда спою, — сказала она по-датски у самой моей щеки. — Не потому, что упрашивают, не приличия ради, просто сейчас мне надо петь.
В ее словах пробивалось то самое злое нетерпение, от которого она только что избавила меня.
Я потянулся со всеми следом за нею. Но застрял у высокой двери, давая другим войти и рассесться. Прислонясь к зеркально-черному косяку, я ждал. Кто-то спрашивал меня, что готовится, будут ли петь. Я сказал, что не знаю. Я еще бормотал свою ложь, а она уже пела.
Я ее не видел. Я услышал одну из тех итальянских песенок, которые иностранцам кажутся подлинными именно в силу своей совершенной искусственности. Певшая в нее не верила, с трудом ее вытягивала, как тяжесть. Об окончании я догадался по взорвавшимся впереди хлопкам. Мне было грустно и стыдно. Вокруг шевелились, вставали, и я решил уйти, едва кто-нибудь выйдет за дверь.
И вдруг стало тихо. Настала тишина, которой никто не ждал; она затягивалась, натягивалась, и вот ее рассек голос. (Абелона, подумал я, Абелона.) Сейчас он был сильный и полный, но без тяжести; весь из одного куска, без швов, без надрыва. Песня была незнакомая, немецкая. Она пела с особенной простотой, как подчинялась неизбежности. Она пела:
Ты, о которой я плачу во сне
на бедной постели.
Ты, чье имя уснуло во мне,
как в колыбели.
Ты, что, припомнив меня в поздний час,
не спишь, быть может,
не именуй это чудо, что нас
всегда тревожит,
пока мы живы!
Коротенькая пауза и — с сомненьем:
Ты на влюбленных взгляни,
но не слушай, что скажут они:
слова их лживы.
Опять тишина. Бог знает, кто ее установил. Зашелестели, толклись, извинялись, кашляли. Уже готовились всё отменить в шуме, когда голос вдруг прорвался, решительный, сильный, настоятельный:
Ради тебя я один. Тебя запомнил одну я.
Ты, как прибой, подступаешь, тихо волнуя
шумом и шелестом пен.
Многих я обнимал и многих утратил давно я.
Ты рождаешься вновь, ты навечно со мною.
Я не коснулся тебя, но взял тебя в плен.[134]
Этого не ждал никто. Все встали, склонясь под ее голосом. А в ней была к концу такая уверенность, словно она давно, годами, предвосхищала этот миг.
Я раньше часто спрашивал себя, отчего Абелона не обратила на Бога калорий своих огромных чувств? Знаю, она старалась лишить свою любовь переходности; но могло ли ее правдивое сердце не чуять, что Бог — лишь направление любви, не ее предмет? Разве она не знала, что здесь можно не бояться взаимности? Не угадывала сдержанности в высоком возлюбленном, который нарочно оттягивает страсть, чтобы дать нам, медленным, выложить все свое сердце? Или она избегала Христа? Боялась, что он, полюбив ее, задержит на полдороге? Не оттого ли с такой неохотой думала она о Юлии Ревентлов?
Я почти в это верю, когда думаю, как любящие — простые, подобно Метхильде[135], неистовые, подобно Терезе Авильской[136], израненные, подобно блаженной Розе Лимской[137], отдавались посредству Христа, смирившиеся, но любимые. Ах! Он, помощник слабых, этим сильным оказывался не впрок: там, где они не ждали уже ничего, кроме бесконечного пути, в волнующем преддверии рая, встречается им сотворенный, балует уютным прибежищем и смущает мужским естеством. Мощная линза его сердца вновь собирает уже параллельные лучи их сердец, и те, кого ангелы надеялись доставить в целости к Богу, воспламеняются в засухе своей страсти.