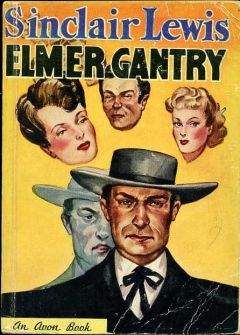Синклер Льюис - Том 4. Элмер Гентри
Они сидели в старых креслах по обе стороны круглой печки и, мерно помахивая в такт бокалами с пуншем, пели:
Stille Nacht, heilige Nacht…[68]
— Да, да, — размышлял вслух старик. — Вот о таком Христе я мечтаю до сих пор — мальчике с сияющими волосами, о милом немецком младенце Христе из чудесной волшебной сказки… А ваши Тросперы превращают Иисуса в чудовище, ненавидящее юность и смех — Wein, Weib und Gesang. Der Arme![69]. He повезло ему, бедняге Христу, что старины Троспера не было с ним на свадебном пиру в Кане Галилейской и некому было объяснить ему, что нельзя превращать воду в вино. Кхе! Кхе! Да… а, может быть, я все-таки и не так уж стар, чтобы завести себе маленькую ферму с большим виноградником, с десятком любимых книг…
VЭлмер Гентри постоянно изощрялся в остроумии по адресу доктора Бруно Зеклина. То назовет его «старым пьянчугой», то ввернет в разговоре: «Кому же и преподавать древнееврейский, как не этой старой вороне! Он и сам-то словно вылез из еврейской книги!» О да, он умел отпустить подобную шуточку, этот Элмер Гентри; а поддержка Эдди Фислингера, который то и дело нашептывал всем в коридорах и уборных, что у Зеклина не хватает одухотворенности, вдохновила Элмера на создание нижеследующего шедевра.
Перед лекцией по истории Старого завета он, изменив почерк, написал на доске:
«Я пьянчуга Зеклин, я знаю больше, чем сам господь бог. Если бы Джейк Троспер пронюхал, что я на самом деле думаю о священном писании, он бы давно надавал мне по моей грязной немецкой шее и выгнал вон».
Студенты входили в аудиторию и дружно гоготали; ржал даже сам доморощенный Кальвин — неповоротливый, громадный брат Каркис.
В класс, семеня ножками, улыбаясь, вошел доктор Зеклин. Прочел надпись на доске. Лицо его выразило сначала недоумение, потом — испуг. Он близоруко оглядел своих студентов, словно старый пес, в которого бросают камнями хулиганы. Потом он повернулся и вышел под хохот брата Гентри и брата Каркиса.
Каким образом слух об этом происшествии дошел до декана Троспера, остается неизвестным.
Декан вызвал к себе Элмера.
— Я подозреваю, что это вы писали на доске.
Элмер решил было соврать, но внезапно передумал.
— Да, господин декан, это я, — выпалил он. — Потому что это стыд и срам… Я не говорю, что достиг вершин христианского совершенства, но я, во всяком случае, стараюсь. И, по-моему, это просто позор, что наш преподаватель, профессор духовной семинарии, старается поколебать в нас веру насмешечками да двусмысленными намеками. Я лично считаю вот так!
— Ну, вам-то лично, я думаю, нечего тревожиться, брат Гентри! — желчно отозвался декан Троспер. — Кто ж это способен вам указать новый путь ко греху?.. Однако в ваших словах, быть может, и есть доля истины. Ступайте и не грешите более. Я верю все-таки, что когда-нибудь вы повзрослеете и используете вашу кипучую энергию на благо многих, быть может, и вас в том числе. Можете идти.
На пасху доктору Бруно Зеклину без всякого объяснения предложили подать в отставку. Он поселился у своей племянницы. Племянница была бедна, любила играть в бридж; он был нежеланным гостем в ее доме. Он зарабатывал немного переводами с немецкого. Года через два он умер.
Элмер Гентри так и не узнал, кто это и зачем прислал ему тридцать серебряных десятицентовых монет, завернутых в брошюрку, трактующую о святости. Впрочем, отдельные выдержки из трактата вполне могли пригодиться для проповеди, а на тридцать серебряных монет он накупил фотографий веселых девиц в весьма фривольных позах.
Глава девятая
Нельзя сказать, чтобы отношения между братом Гентри и братом Шаллардом перед рождеством отличались особой сердечностью даже во время совместных трудов на дрезине, которые, казалось бы, могли настроить обоих на более дружеский лад.
Однажды, пыхтя над рычагами на обратном пути из Шенейма, Фрэнк сказал:
— Слушай, Гентри, надо что-то предпринимать. Опять не нравится мне эта твоя история с Лулу. Я вижу, как вы с ней переглядываетесь. И потом — сильно подозреваю, что это ты донес декану на доктора Зеклина. Боюсь, придется мне самому сходить поговорить с деканом. Не годишься ты в пасторы.
Злобно взглянув на Фрэнка, Элмер выпустил рычаг и потер руки в варежках о бедра.
— Я этого разговора ждал, — спокойно произнес он. — Я — человек увлекающийся, допустим. Я совершаю серьезные ошибки — какой нормальный мужчина их не совершает? Ну а ты? Я не знаю, далеко ли ты зашел в своем гнусном неверии, но не волнуйся, я слышал, как. ты жмешься и мнешься, когда тебя о чем-нибудь спрашивают дети в воскресной школе! Я знаю, что ты уже нетверд в вере. Недалек тот день, когда ты станешь отъявленным вольнодумцем. Господи! Подумать только — подрывать устои христианской религии, отнимать у слабых, мятущихся душ единственную надежду на спасение! Да ты преступник страшнее самого страшного убийцы!
— Это неправда! Я скорей умру, чем отниму веру у того, кто в ней нуждается!
— Значит, тебе просто-напросто не хватает ума понять, что ты творишь, и тебе не место на кафедре христианской церкви. Это мне нужно сходить поговорить с папой Троспером! Да взять хотя бы эту девушку, которая пришла к тебе сегодня, пожаловалась, что ее отец отлынивает от семейной молитвы! Ты ей что сказал? Что это, мол, не так уж важно! А может, ты как раз этим и толкнул бедную девушку на скользкий путь сомнений, что ведет к вечной погибели!
И всю дорогу до Мизпахской семинарии Фрэнк, волнуясь, объяснял и оправдывался.
А когда они вернулись в Мизпахскую семинарию, Элмер милостиво разрешил Фрэнку отказаться от своего места в Шенейме и посоветовал не пытаться искать себе места в другом приходе, пока он не раскается и не умолит святого духа наставить его на верный путь.
Элмер сидел в своей комнате, упиваясь праведным торжеством. Он так вошел в свою роль, что только через несколько минут сообразил, что Фрэнк больше не будет мешать его отношениям с Лулу Бейнс.
IIДо наступления марта Элмеру раз двадцать удавалось встречаться с Лулу в ее собственном доме, в заброшенном бревенчатом сарае, в церкви. Но ее доверчивый лепет начинал уже надоедать ему. Даже ее обожание стало раздражать его: она постоянно и безудержно щебетала одно и то же. В любви она также была крайне неизобретательна. Ее поцелуи всегда были одинаковы, и от него она ждала таких же.
К началу марта он уже был сыт ею по горло, а она была так безгранично предана ему, что он начинал подумывать, не придется ли ему бросить Шенеймский приход, чтобы отвязаться от нее.
Он чувствовал себя несправедливо обиженным.
Никто не мог обвинить его в бессердечном обращении с девушками. Он даже не презирал их, как, бывало, презирал Джим Леффертс. Он многому научил Лулу, помог ей преодолеть ее провинциальную ограниченность; показал, что можно быть религиозным человеком и все-таки весело проводить время — надо только правильно смотреть на вещи и понимать, что проповедовать высокие идеалы, конечно, необходимо, но нельзя же требовать от человека, чтобы он на каждом шагу неукоснительно следовал им в повседневной жизни. В особенности, когда он молод. И разве он не подарил ей браслет, который стоил целых пять долларов?
Но она оказалась такой безмозглой дурой! Ни за что желала понять, что наступает момент, когда мужчине хочется отдохнуть от всех этих поцелуев, обдумать план воскресной проповеди, подзубрить этот подлый греческий. В сущности, возмущенно размышлял он, она его обманула. Он-то ведь считал, что имеет дело с милой, покладистой, уравновешенной девчуркой, с которой приятно позабавиться и которая не станет ему надоедать, когда его призовут более серьезные дела. А оказывается — вот тебе и раз: страстная натура! Поцелуи ей, видишь ли, подавай. Целуешься час, целуешься два — да сколько же можно! Его уже тошнит от поцелуев! Так и тянутся к тебе все время эти губы, то лезут к руке, то чмокают в щеку — и именно в тот момент, когда тебе хочется поговорить…
Она посылала ему в Мизпахскую семинарию слезливые записочки. А что, если они попадутся кому-нибудь на глаза? Хорошенькое дело!.. Она писала, что живет только от встречи до встречи, мешала ему, отвлекала его внимание от серьезных дел. Она влюбленно пялила на него свои глупые, нежные, сентиментальные глаза во время проповеди и начисто портила ему весь стиль. Она изводила его донельзя, и, значит, ему не остается ничего другого, как только от нее избавиться.
Неприятно, конечно, очень! Он всегда поступал с женщинами по-человечески — да и вообще со всеми. Но что поделаешь: надо — не только ради себя, а и ради нее самой…
Придется обойтись с ней покруче, так, чтобы она обиделась.
IIIОни были одни в Шенеймской церкви после утренней службы. Она шепнула ему в дверях: