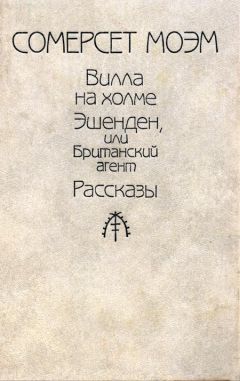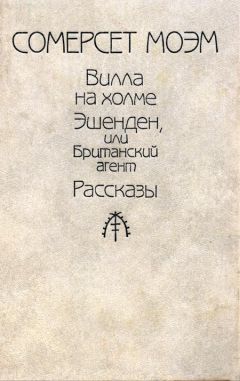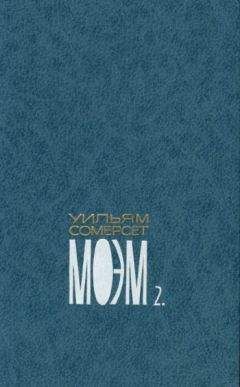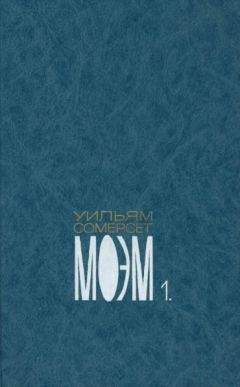Уильям Моэм - Рассказы (Авторский сборник изд-ва «Республика»)
Миссис Хэмлин навещала Галлахера ежедневно. И словно трава, бурно растущая прямо на глазах после весеннего тропического ливня, шло разрушение его плоти. От него остались лишь кожа, висевшая мешком, да кости, вместо двойного подбородка болтался морщинистый индюшачий зоб, щеки запали; стало особенно заметно, какого он большого роста: из-под простыни выступало огромное костлявое тело, похожее на остов доисторического животного. Почти все время он лежал, не размыкая век, оцепенев от морфия и содрогаясь, как и прежде, от ужасных спазмов; когда порой он открывал глаза, заметно становилось, как неестественно они огромны, каким невидящим, недоуменным и тревожным взором глядят из резко обозначившихся, провалившихся орбит. Но если он выныривал из забытья и узнавал миссис Хэмлин, то заставлял себя галантно улыбнуться.
— Как вы себя сегодня чувствуете, мистер Галлахер? — справлялась она.
— Вот кончится этот чертов зной, и я сразу оживу. Господи боже мой, жду не дождусь, когда смогу нырнуть в Атлантику. Кажется, все на свете бы отдал, лишь бы как следует поплавать в море и чтоб холодные, серые волны Голуэя били в грудь.
Тут все его тело, от макушки до кончиков пальцев, передернулось. При нем неотлучно находились мистер Прайс или горничная. С мордочки кокни исчезло выражение вызова и дерзкого веселья, уступив место угрюмости.
— Вчера меня затребовал к себе капитан, — сообщил он ей, когда они остались вдвоем. — Устроил мне приличную головомойку.
— Из-за чего?
— Сказал, что не потерпит эти разговорчики про сглаз и все такое. Сказал, что это лишь пугает пассажиров и чтобы я попридержал язык, иначе буду иметь дело с ним. А я тут при чем? Я никому о том ни звука, кроме вас и доктора.
— Но пассажиры лишь об этом и толкуют.
— И что? Вы думаете, без меня это никто не видит? Да это понимают все — ласкары и китайцы, они смекают, что с ним происходит. Не думаете же вы, что их удалось переучить? Они смекают, что это не обычная болезнь.
Миссис Хэмлин в ответ не проронила ни слова. От цветной прислуги знакомых пассажиров она знала, что на пароходе никто, за исключением белых, не сомневается, что женщина, которую бросил Галлахер в далеком Селантоне, изводит его колдовским заклятием. Они не сомневаются, что, как только каменистые берега Аравии станут видны с корабля, душа его расстанется с телом.
— Капитан сказал, что если он услышит, будто я затеваю всякие там штучки-дрючки, то запрет меня в каюте и не выпустит до конца пути, — вдруг выпалил Прайс, и его морщинистое личико явно приняло озабоченное выражение.
— Какие еще штучки-дрючки?
Прайс бросил на нее свирепый взгляд, как будто ярость на капитана распространялась и на нее:
— Доктор перепробовал все дурацкие средства, какие были ему известны, и по радио запрашивал советы по всему свету — ну и чего он добился? Скажите на милость, он что, не видит, — человек умирает? Теперь остался только один способ его вылечить.
— Какой же?
— От колдовства он погибает, и только колдовство его спасет. И не говорите мне, что такого не бывает, — он почти кричал, пронзительно и раздраженно. — Я сам видел, как человека буквально из могилы вытащили, когда привели к нему паванга — по-нашему говоря, знахаря-чудодея, и он стал проделывать эти свои фокусы. Я сам видел, говорю вам.
Миссис Хэмлин по-прежнему не отзывалась. Он посмотрел на нее испытующе:
— У нас тут на борту имеется такой вот чудодей, вроде того, что был у нас в Малайзии. Только ему нужно какое-нибудь животное, хоть живой петух.
— Живой петух? Но для чего? — она слегка нахмурилась.
— Послушайте моего совета, вам же лучше ничего об этом не знать. Но хочу сказать вот что: я ничего не побоюсь, лишь бы спасти моего хозяина. А если капитан дознается и запрет меня в каюте, пусть его запирает.
Тут к ним подошла миссис Линселл, и, попрощавшись с ними тем же странным жестом, что и с Галлахером, он скрылся. Миссис Линселл просила миссис Хэмлин примерить ее костюм, который она сшила себе для бала-маскарада, и по пути к каюте стала озабоченно обсуждать, что будет, если Галлахер умрет на Рождество. Тогда, наверное, отменят танцы. Она сказала доктору, что рассорится с ним навсегда, если такое случится, и доктор ей торжественно поклялся, что не допустит этого и что-нибудь придумает, лишь бы больной не умер в праздник.
— И для него так будет лучше, — заключила свою речь миссис Линселл.
— Для кого? — не поняла собеседница.
— Для бедного мистера Галлахера. Кому приятно умереть на Рождество, ведь верно?
— Не знаю, право, — бросила миссис Хэмлин.
Забывшись ненадолго сном, она той ночью пробудилась от рыданий. Ее встревожило открытие, что она плачет во сне. Ведь это значило, что телесная слабость взяла верх над волей, а если воля сломлена, ей больше нечем защититься от всезатопляющей печали. Снова и снова перебирала она мысленно — как делала уже не раз — подробности сразившего ее несчастья, вспоминала свои разговоры с мужем, понимала задним числом, что надо было сказать одно, и корила себя за то, что сказала другое. От всей души жалела она, что не осталась тогда в блаженном неведении, и спрашивала себя, не было ли бы умнее спрятать гордость и закрыть глаза на огорчительную правду. Женщина светская, она прекрасно знала, что, расставаясь с мужем, теряла много больше, чем одну только любовь, она теряла и налаженную жизнь, и твердое положение, и достаток, и поддержку влиятельной среды. Ей было знакомо много жен, живших отдельно от мужей, и положение их было шатко, а доходы куцы. Знала она и то, как быстро ими начинали тяготиться друзья. Она тоже была одинока. Одинока, как корабль, который, содрогаясь, поспешал сейчас через пустыню моря, одинока, как никому не нужный человек, который умирал сейчас неподалеку в лазарете. В каюте было очень душно. Ока мельком взглянула на часы, стрелки показывали четыре с минутами, и значит, до наступления несущего отраду дня оставалось еще два томительных часа.
Она накинула кимоно и поднялась на палубу. Тьма была непроглядная — на чистом небе, не закрытом тучами, не высветилось ни одной звезды. Дрожа и пыхтя, старое судно на всех парах тяжело влеклось сквозь мрак. Стояла жуткая тишина. Миссис Хэмлин, нащупывая босыми ногами дорогу, медленно брела по палубе.
Не видно было ни зги. Дойдя до конца верхней палубы, она оперлась о поручни. Вдруг она вздрогнула и насторожилась — на нижней палубе мерцал неверный огонек. Она осторожно пригнулась вперед. Внизу горел маленький костерок, но ей был виден только отсвет — пламя загораживали голые спины сгрудившихся вокруг мужчин. Чуть в стороне она не столько разглядела, сколько угадала крепкую мужскую фигуру в пижаме. В отличие от прочих — туземцев, это был европеец. Должно быть, Прайс. И она тотчас догадалась, что там происходит таинственный обряд изгнания нечистой силы. Напрягши слух, она расслышала, как тихий голос бормотал, нанизывая загадочные слова заклинания. Ее пронзила дрожь. Хотя она и понимала, что те внизу сейчас слишком заняты, чтоб заподозрить, будто кто-то их выслеживает, но все-таки боялась шевельнуться. И вдруг, разорвав душную темноту ночи — казалось, будто треснул пополам туго натянутый шелк, — пропел петух. Она едва сдержала крик. Прайс боролся за жизнь своего друга и господина, принося жертвоприношение темным богам Востока. Упорный, тихий голос бормотал и бормотал. Затем в неясно различимом кругу произошло какое-то движение, там что-то совершалось, но что — она не видела. Потом послышалось испуганное и сердитое кудахтанье, а после звук — жуткий, непередаваемый: колдун полоснул петуха ножом по горлу, и воцарилось молчание; затем последовало вновь какое-то неясное движение, которое нельзя было понять, и вскоре — мягкое притопывание, должно быть, гасили костер. Смутно серевшие фигуры растворились в ночи, и стало еще тише, чем прежде. Слышна была только мерная вибрация моторов.
Исполненная непонятного волнения, она еще немного постояла, медленно пошла по палубе, нащупала шезлонг и легла. Ее по-прежнему била дрожь. Можно было лишь догадываться о том, что совершилось там, внизу. Она сама не знала, долго ли лежала так, когда заметила, что зарю осталось ждать недолго. Еще не рассвело, но тьма редела, ночь сменялась днем. На фоне черного неба уже можно было разглядеть поручни. И вдруг она увидела, что к ней идет человек в пижаме.
— Кто там? — испуганно вскрикнула она.
— Всего лишь доктор, — отозвался дружелюбный голос.
— Ох! Как вы тут оказались в эту пору?
— Я от Галлахера. — Он сел рядом и закурил. — Сделал ему только что отличное вспрыскивание, и он успокоился.
— Было очень плохо?
— Я думал, это агония. Я наблюдал за ним: он вдруг приподнялся на постели и заговорил по-малайски. Понять его я, разумеется, не мог, но он твердил одно и то же слово.