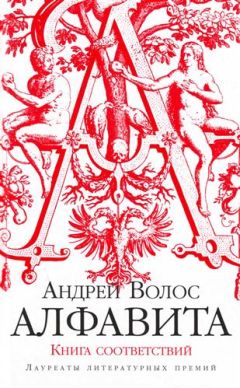Лори Ли - Сидр и Рози
— Это твой дядя Рэй вернулся домой, — прошептала Мать. — Вставай и дай ему спокойно поспать.
Я увидел кирпично-красное лицо, тонкий индейский нос, почувствовал запах сигар и паровозного масла. Это и был герой наших мальчишеских, хвастливых рассказов школьных дней, и, разглядев его получше, я не разочаровался. Кожа у него была блестящей, как железо, и изношенной, как скала, и раскинулся он, как спящий атаман разбойников. Он приехал со стройки железной дороги навестить нас, его жгли деньги и жажда, и дни, которые он провел в нашем доме в тот раз, были полны чудес и усилий по самосожжению.
В одном он абсолютно не походил ни на каких других мужчин, которых мы знали до сих пор — или о которых слышали, если до того доходило. Со своим дубленым лицом, с набитым зубами, как у акулы, ртом и зоркими голубыми глазами, он выглядел, как воин из вигвама, раскрашенный изображениями солнца и картинами героических сражений. Он говорил на канадском диалекте железнодорожных лагерей, растягивая слова и проталкивая их сквозь нос. Каждый сантиметр его тела был татуирован — корабли под всеми парусами, флаги всех народов мира, рептилии и большеглазые девушки. Хитрой игрой мускулов тела он умудрялся заставлять корабли плыть, флаги трепетать на ветру, а змея обвиваться вокруг дрожащих девушек.
Дядя Рэй стал для нас подарком дьявола, чудовищной игрушкой, добродушным чудаком, более экзотичным, чем цирковая обезьяна. Он мог часами сидеть неподвижно, пока мы обследовали его, и принимал все наши издевательства. Если мы толкали его, он стонал, если щипали, он делал вид, что всхлипывает; он переносил боль и неудобства от нас, как настоящий Калибан. Или вдруг он переворачивал нас вверх ногами, или ставил плясать себе на живот, или подбрасывал нас парами, по одному в каждой руке, стукая головами в потолок.
Но, раньше или позже он объявлял:
— Ба, мальчики, я должен идти.
Тогда он вставал, стряхивал нас, как блох и начинал медленно облизывать губы.
— Куда ты пойдешь, дядя?
— Посмотреть на человека-мула.
— Вовсе нет! Куда ты собираешься? Для чего?
— Клянусь. Хоть рубите пальцы. Отрежьте язык. Обварите маслом спину.
— Неправда! Ты придумываешь! Дядя!..
— Просто нужно идти, ребята. Увидимся в аду. Трите к носу. Будьте молодцами. Пока.
И он убегал; хотя Бог знает куда, мы не могли придумать такого места. Затем возвращался, может быть, на следующий вечер, насквозь мокрый, с собачьей ухмылкой. Он почти ничего не видел, не мог повесить пальто, не мог найти задвижку двери. Он падал на стул у камина, от него валил пар, он распевал песни и флиртовал с протестующими девочками. «Иди-ка лучше спать», — говорила Мать строго; при этом он разражался театральными рыданиями. «Анни, я не могу! Я не могу сдвинуться ни на дюйм. Сломал ногу… Может, две».
Однажды вечером, после отсутствия в течение двух дней, он вернулся на велосипеде, но проехал мимо дома, прямо вниз, в берегу, в штормовую темноту, и врезался в туалет. Девочки выбежали и притащили его в дом, стонущего, вымазанного кровью. Они уложили его на кухонный стол, сняли ботинки и обмыли раны. «Ну и ну, в каком же он состоянии, — хихикали они, шокированные. — Это виски, а может быть, и что похуже, Мама». Он начал петь «О, Долли, дорогая…», затем принялся есть мыло. Он пел и пускал пузыри, а мы столпились вокруг, никогда наш дом не посещали мужчины, подобные ему.
Скоро распространился слух, что Рэй Лайт вернулся домой, набитый канадским золотом. Его записали в дебоширы, за ним охотились девушки и несколько раз предупреждала полиция. В основном, он через все перешагивал, но временами девушки по-настоящему доставляли ему беспокойство. Скромная молодая швея, которую он обнимал в кино, украла у него в темноте набитый долларами кошелек. А однажды утром Бити Барроуз пришла к нашим дверям и заявила, что он обещал на ней жениться. Под аркой пивоваренного завода в Строуде, сказала она, чтобы окончательно убедить нас. Ему пришлось три дня прятаться на чердаке…
Но, пьяный или трезвый, дядя Рэй был все тем же — большим волосатым животным, убегающим развлечься; беспомощным великаном, дружелюбным, наивным, сентиментальным и откровенно похотливым. Он пугал моих сестер, но даже таким они его обожали; что же касалось нас, мальчиков, чего же больше могли мы желать? Он даже учил нас на себе, как вязать узлы, хвастаясь, что никакой узел его не удержит. Поэтому однажды вечером мы привязали его к кухонному стулу, понаблюдали немножко, как он пытается освободиться, и отправились спать. Мать нашла его на следующее утро, стоящим на локтях и коленях, все еще привязанным и крепко спящим.
Тот визит дяди Рэя, с его играми и демонстрацией картинок, был похож на продолжение в доме Рождества. Заведенный порядок, дисциплина и нормальное поведение были отменены на это время. Мы поздно не ложились спать, позволяли себе разные вольности и разделяли с ним его пьяную свободу. Он носился по округе, исчезал в свои командировки, возвращался взъерошенный, в подпитии, щипал девочек, пел песни, падал, поднимался и разбрасывал доллары. Мать по очереди то поджимала губы, то потворствовала ему, цокала языком, посмеивалась. Девочки были так же возбуждены и в любую минуту готовы к атаке, как и мы, хотя по иному, исподтишка; они часто шушукались: «Ты бы поверила такому? Я — ни за что! Какой ужас!» или «А ты слышала, что он мне тогда заявил?»
Когда он истратил все деньги, он отправился назад в Канаду, в лагерь железнодорожников, оставив тут несколько разбитых голов, разжиревших хозяев гостиниц и хорошеньких девушек. Вскоре после возвращения в Канаду, работая в заснеженном Рокки, он подорвался на динамите. Его отбросило от тропы Лягающейся Лошади на девяносто футов, прямо на замерзшее озеро. Школьная учительница из Тамворта — теперь моя тетя Элси — проехала четыре тысячи миль, чтобы собрать его по кусочкам. Откопав его из снега и отогрев, она вышла за него замуж и привела к себе домой. Это и стало концом метаний первопроходца — рыскающей собаки прерий; но без него Канадская Тихоокеанская железная дорога никогда бы не дошла до Тихого океана, во всяком случае, мы в этом были уверены.
Мрачный, величавый дядя Сид был четвертым, но не последним из братьев. У этого невысокого, сильного человека, когда-то чемпиона по крикету, жизнь была отравлена ревматизмом. После того как вернулся из армии, он стал шофером автобуса и работал на одном из первых омнибусов. Эти, на сплошных шинах, с открытым верхом, пассажирские колесницы были левиафанами дорог в то время, пошатывающимися осадными башнями, которые ехали куда попало и их верх часто застревал под мостами. Наш дядя Сид, один из лучших шоферов, стал знаменитым в округе. И чувство гордости, и страх переполняли нас одновременно, когда он, громыхая, пролетал мимо, торча, как на насесте, в своей полной дыма кабине. По лицу его тек пот от пива и прилагаемых усилий, когда он крутил руль, борясь с колесами, чтобы удержать огромный автобус на дороге. При каждом рейсе через город разрушалась черепица на крышах и водосточные трубы, срывались кожухи с уличных фонарей. Но больше всего он переживал, чтобы не задавить женщин и детей, и никогда не заезжал на тротуар. Неудержимый горлопан, загруженный людскими душами, причина панического бегства полисменов и лошадей — именно дядя Сид своими умелыми руками создавал автобусу его сумасшедшую карьеру.
Летопись жизни дяди Сида, как и дяди Чарли, началась во время Южноафриканской войны. В качестве солдата-наемника он заработал репутацию молчаливого, хитрого и выносливого человека. Его талант к крикету, развитый на изрытых кротами просторах Шипскомба, и там обеспечила ему особые привилегии. Очень скоро его отправили играть за армию, и он стал получать усиленное питание. Одержимость его деревенской манеры игры вызвала переполох в офицерской среде. Наконец-то, на плоском поле, с опаленными солнцем сухими воротцами, после бугристого, с коровьими лепешками родного поля, он попал прямиком в разряд гениев, побив все возможные рекорды и истрепав огромное количество чужих нервов. Его убийственные посылы низвели бывших героев до состояния паники; они просто помахали ему рукой и сбежали — когда он вошел с битой, парни надели шапочки и молча рассеялись по границам поля. Я представляю себе этого широкоплечего, невысокого, подвижного человечка, бьющего без промаха крикетный шар от земли, лицо его налито кирпичной кровью от ярости, плечи рвутся из-под подтяжек. Я вижу его крюк для следующей передачи, затем разворот на коротких, кривых ногах и удар, от которого шар пролетает чуть не полпути до Иоганнесбурга. При этом мысленно он слышит одобрение из далекого Шипскомба. В старой трансваальской газете, сохраненной Матерью, я однажды нашел счет, который выглядел примерно так:
Армия против Трансвааля. Претория, 1899 г.